

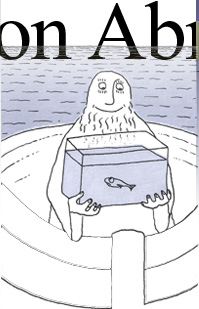
В.Тишков

Понимание и управление культурным многообразием в России
1. Общее и особенное в восприятии культуры.
Что есть «культурное многообразие» (cultural diversity), столь часто упоминаемое в мировой науке и в политике? Существуют ли языковые или смысловые аналоги этого понятия в русском языке? Наконец, как схожие или разные смыслы порождают и разные политические практики, включая правовые нормы и систему государственного управления? Ибо главное заключается не в самом факте наличия культурно сложного населения, совместного проживания и взаимодействия людей с культурно отличительными характеристиками, а в том, какой смысл то или иное общество придает культурным (этническим, языковым, религиозным, расовым) различиям, как и в каких целях эти различия используются. С этой точки зрения Россия действительно имеет разительное отличие от преобладающего на Западе и в остальном мире опыта. Сходный с Россией опыт имеют только страны бывшего СССР и, отчасти, восточно-европейские страны. По выражению американского историка Т. Мартина, СССР представлял собою «империю позитивных действий» - государство, в котором был осуществлен уникальный эксперимент масштабного спонсирования этничности, начиная от научных разработок и этнического картографирования, системы переписного и документального учета и вплоть до системы государственного устройства и официальной идеологии «дружбы народов».[1]
Полагать, что российская «многонациональность» есть неистребимый результат длительной эволюции, что принадлежность к этносу дает человеку «его культуру» и что на этом фундаменте можно утверждать многокультурность и толерантность, является, на наш взгляд, заблуждением. При внешне обновленческой увлеченности многокультурностью части российского научно-образовательного сообщества, многое опять сводится к тривиальной «многонациональности»: «в нашей республике (крае, области, городе) проживает более ста наций», «в нашей школе учатся и взаимодействуют десятки этносов», «у нас дети разных культур познают друг друга», «представители некоренной национальности должны интегрироваться» - эти и подобные сентенции постоянно присутствуют в языке ученых и педагогов. Ограниченный научный багаж и сложившаяся ментальность не позволяют отечественным экспертам и практикам представить себе россиян как людей одной культуры и как сообщество по общей идентичности, а не как заключенное в общие границы собрание носителей одинаковых паспортов.
Культурное многообразие состоит не только в том, чтобы тщательным разглядыванием и «народоведческим» натаскиванием создавать из этнографических наработок номенклатуру разных культур и составлять по школьным классам, вузам, поселкам, республикам и всей стране реестр четко себя осознающих носителей трудно определяемой «национальной самобытности». Культурное многообразие состоит не только в том, что носителям «больших» и «малых» культур воздается равное должное и предоставляется «культурная свобода», чтобы с помощью государства, его бюджета и законов, учителей, этнологов, психологов все разнокультурные граждане могли вести между собой «межкультурный диалог». Сердцевиной понятия «культурное многообразие» является признание многообразных форм самих культурных общностей, признание и спонсирование не только различий, но и схожести, одинаковости, которые чаще всего преобладают над различиями, по крайней мере, в рамках одной национальной (не этнической!) культуры, каковой является российская культура. Сердцевиной культурного многообразия является признание культурной сложности на уровне отдельного человека, а не только группы.
К сожалению, отечественный научный, политический и управленческий арсенал понимания и воздействия не предполагают, что такое возможно и что такое есть норма, а не аномалия. Именно поэтому культурная свобода в России мыслится почти исключительно как «национальное самоопределение» (русское, осетинское, татарское и прочие), как право и обязанность быть в группе (вспомним переписной лозунг в Татарстане: «Запишись татарином!»), как право на «свои» территорию, государственность, язык, как право на свободное общение с «другими» или же на силовую защиту от «других». Понятие культурной свободы в России не включает право на культурную сложность и на принадлежность к сложной культуре (например, российской или дагестанской), право на одновременную принадлежность к нескольким культурам, в том числе и к сложным (российской и дагестанской одновременно, помимо аварской или даргинской), право на выход или на пребывание вне культуры. Культурная свобода рассматривается только как право быть в определенной группе по кровному или моральному обязательству или же, в лучшем случае, по свободному выбору человека. На самом деле культурная свобода не в меньшей мере определяется правом выхода из группы или правом пребывать вне группы.
Почему в нашей стране не является нормативно достаточной для того или иного человека сложная по своему содержанию, но цельная российская культура преимущественно на основе русского языка, который совсем не является исключительной собственностью только этнических русских? Как можно убедить отечественных экспертов и управленцев, что российская культура цельна и многообразна как по своим корням (от византийско-славянских традиций до тюркско-кавказского культурного арсенала), так и по содержательному набору (общие версия истории, жизненные ценности и установки, общеразделяемые высокая культура и масс-культурный арсенал, общие культурные герои и символы, общие спортивные команды)? Ответить на эти вопросы построенный на этнонационализме и на схоластике этноса российский общественно-политический дискурс фактически неспособен. Но искать ответы необходимо, как и необходима политика признания сложнокультурной общности россиян. Именно сложная (гибридная) культурная целостность, «негомогенное целое» (выражение М.М. Бахтина), а не абстракция «межнациональных отношений» и даже не «многокультурность» заслуживают настоящего внимания научных экспертов и общественных управленцев.
Доклад ООН о человеческом развитии за 2004 год был специально посвящен теме «Культурная свобода в современном мире», и в ответах на фундаментальные вопросы эта важная публикация оказывается нашим союзником[2]. Приведем только некоторые из его ключевых положений обзорной части доклада:
Культурная свобода является важнейшей составляющей человеческого развития, потому что для полноценной жизни индивиду абсолютно необходимо определить свою идентичность (с. 1).
Чувство самобытности и принадлежности к группе, разделяющей общие ценности, имеет огромное значение для индивида. Однако каждый человек может отождествлять себя со многими различными группами (с. 3).
Теории культурного детерминизма заслуживают критической оценки, поскольку их применение ведет к опасным политическим последствиям и может стать источником как внутренней, так и межгосударственной напряженности (с. 5).
Чтобы стать полноценными членами обществ, построенных на многообразии и воспринять всемирные ценности терпимости и уважения к всеобщим правам человека, индивиды должны выйти из жестких рамок той или иной идентичности (с. 12).
И, наконец, нобелевский лауреат в области экономики Амартия Сен в качестве главного консультанта доклада пишет следующее: «Вместо того, чтобы восхвалять бездумную приверженность традициям или пугать мир мнимой неотвратимостью столкновения цивилизаций, концепция человеческого развития требует уделить внимание роли свободы в культурных (и иных) сферах и путям защиты и расширения культурных свобод. При этом важнейшим вопросом становится даже не роль традиционной культуры, а всевозрастающее значение культурных альтернатив и свобод».[3]
Я отношусь скептически к высказываниям нобелевских лауреатов не по профилю их занятий, но в данном случае А. Сен прав: призывы к культурному многообразию на том основании, что оно исторически задано тому или иному обществу, что оно унаследовано различными группами людей, а ее представители еще в дошкольном возрасте «открывают» в себе самобытность, на самом деле далеки от признания культурной свободы. Опять же авторы доклада правы, когда пишут: «Рождение в конкретной культурной среде не является реализацией свободы, - скорее, наоборот. Актом культурной свободы оно становится только тогда, когда индивид осознанно решает продолжать вести образ жизни, свойственный данной культуре, и принимает такое решение при наличии других альтернатив».[4] Кстати, худший вид нетерпимости, который мне приходилось наблюдать, это прямое или косвенное принуждение индивида жить таким же образом, что и другие члены общества. В сравнительно малых и актуализированных этнических сообществах такая ситуация чаще всего оборачивалась личными драмами и поколенческими конфликтами.
2. Как лучше понимать культурное многообразие.
Под словами «культурное многообразие» я имею в виду не узкое значение слова «культура» как художественное творчество или народно-бытовая традиция, а как создаваемые индивидом и человеческими коллективами различия в материальной и духовной культуре – от систем жизнеобеспечения (хозяйство, пища, одежда, жилище) и коммуникации (язык) до социальной организации, поведенческих норм и религиозных представлений. Суммарно эти культурные различия группируются по формам идентификации (соотнесения) людей с той или иной «большой категорией» человеческой (культурной) отличительности. Эти категории не родились сами по себе, как полагают так называемые примордиалисты (или эссенциалисты) - ученые и практики, верящие в существование таких архетипических человеческих коллективов, как этнос или раса.
Современное знание все больше приходит к выводу, что культурные различия и основанные на них групповые коалиции людей есть исторически подвижные понятия, их содержание и смысл меняются и имеют большое географическое/региональное многообразие. Но самое важное – их существование само по себе есть результат целенаправленных усилий со стороны активистов социального пространства: элит, управленцев и ученых, результат так называемого социального конструирования. То, что называется, воспринимается и изучается как группа (народ, нация, меньшинство, раса, диаспора и т.п.), на самом деле представляет собой не реально существующее коллективное тело со своим «самосознанием», «характером», «волей», «судьбой», а человеческие отношения (социальные, политические, эмоциональные) по поводу этих воображаемых коалиций.[5]
Преодоление ментальности группизма на основе культурных категорий представляет собой сложную задачу для современной науки и политики, а для российской практики это вообще трудно воображаемая перспектива. В отечественном обществознании до сих господствует теоретико-методологический подход, основанный на видении культурного многообразия как исключительно многообразия групп с их пережитыми «историческими несправедливостями», фундаментальными потребностями, интересами, правами и т.п. В западной социологии и политологии этот подход также разделяется некоторыми авторами. Здесь сказывается влияние политической практики регулирования межгрупповых отношений и поддержки меньшинств, а также амбициозных проектов типа «Меньшинства в состоянии риска».[6] На этом далеко не самом современном подходе основаны документы (в частности, Декларация о правах национальных меньшинств) и деятельность такой организации, как ОБСЕ, особенно в регионе бывшего СССР.
Наиболее перспективным для современного мира, в том числе и для России, является подход, который видит культурное многообразие как многообразие форм человеческой идентификации, включая существование культурной сложности на уровне индивида и на уровне коллектива. Другими словами, существуют и должны быть признаны наукой и государственной процедурой социо-культурная общность российский народ или россияне, чья этническая идентичность может определяться в том числе и сложными словами: русский еврей, украинец-русский, татаро-башкирин и т.п. По мнению некоторых специалистов, люди такого рода относятся к категории этнических маргиналов. На самом деле, это скорее норма для российского сообщества (не менее трети населения – это потомки смешанных браков), а также и для подавляющего большинства других гражданских сообществ.
Безусловным является и то, что два типа групповой идентичности (по культуре и по гражданско-политическому сообществу) также сосуществуют и не являются взаимоисключающими, т.е. русский и россиянин, татарин и россиянин, чеченец и россиянин и т.п. – это абсолютная норма, как бы не старались этнонационалисты подвергнуть сомнению российскую идентичность, выраженную в слове россиянин, как некий уродливый эвфемизм. Кстати, успешное существование и целенаправленное формирование множественных и взаимодополняющих идентичностей в рамках единого государственного сообщества вполне убедительно раскрывается на примере таких стран, как Испания, Бельгия, Индия и многих других. Именно такая стратегия формирования нации признается как наиболее оптимальная и перспективная. Для Российской Федерации она является единственно возможной.
Важно понять, что культурное многообразие и политика многокультурности – это не просто другие слова для замены привычных отечественных понятий-концептов «многонациональность» и «национальная политика», или их более современных языковых вариантов - «многоэтничность» и «этническая политика». К категории культурных различий, которые существуют среди человеческих коллективов и которые необходимо учитывать в управлении, относятся и другие, с этничностью жестко не связанные. Основанные на них сообщества также требуют признания и регулирования их отношений с другими сообществами, как и обеспечение их членам должного статуса в обществе и государстве. Такое более широкое понимание культурного многообразия во многом поможет российским ученым и политикам выйти из тупика научных, правовых и политических споров по поводу того, является та или иная группа «отдельным народом», «коренным народом» или нет, имеет ли она право на отдельную фиксацию в переписи или нет, можно ли ей создавать свою национально-культурную автономию или нет.
Если мы разделяем более широкий взгляд на то, что есть культурное многообразие, тогда такие формы культурной идентификации среди россиян, как кряшены (православные татары), поморы (приверженцы историко-региональной традиции), казаки (сословно-историческая идентификация), кубачинцы (культурно отличительное местное сообщество в Дагестане) и многие другие самообозначения среди россиян не будут предметом ожесточенных дебатов и причиной обострения отношений между людьми с разной культурной идентификацией, между властью и населением, между центром и регионами. Культурное многообразие России – это не просто номенклатура проживающих на территории страны народов, а многообразные, в том числе множественные и многоуровневые формы идентичности в рамках российского народа.
3. Как лучше управлять культурным многообразием.
Если мы принимаем более современный подход в проблеме культурного многообразия и желаем проводить эффективную политику, тогда необходимы коррективы в науке и в общественном управлении. Казалось бы, простейший путь сохранения многообразия культур – это их консервация (выражаясь более элегантно – «сохранение, поддержка и развитие») в том виде, как это многообразие сложилось в нашей стране. Но тогда, как справедливо задают вопрос авторы Доклада, «не сведется ли после этого борьба за культурное многообразие к поддержке культурного консерватизма, когда людей будут призывать оставаться верными своим культурным корням и не пытаться перенимать другие образы жизни? Это немедленно приведет к переходу на позиции, противоречащие свободе, и к ограничению права выбора образа жизни, в котором, возможно, были бы заинтересованы многие. Таким образом, мы окажемся в сфере иной исключительности, а именно – исключительности из участия, в отличие от исключенности по образу жизни, так как люди, принадлежащие к культурам меньшинств, будут исключены из участия в преобладающем направлении культуры».[7]
В России, где постсоветская государственная стратегия строилась на идеологеме «национального» (читай – этнического) возрождения и развития, уже были приняты законы и программы, а также осуществляются региональные и общественные проекты именно с целью сохранения частных «культурных корней», будь это татарские, якутские, осетинские, или же более ветвистые и условные корни, как, например, финно-угорские или тюркские. Эта политика не оставляет места тем чувашам или татарам, которые не говорят на чувашском или на татарском языках и которых больше интересует российскость, а не финно-угорскость или тюркость? Как быть тем «финно-уграм», которые заинтересованы в том, чтобы их дети обучались не в Венгрии или Эстонии, а в московском вузе и могли сдать вступительный экзамен по русскому языку, а затем преуспеть по жизни именно в большом российском пространстве? Отечественная «национальная политика» на общероссийском уровне до сих пор на этот важный вопрос для части, если не для большинства, населения ответа не дает. В то же самое время этнонационализм, отправляемый властями и общественностью некоторых российских республик и областей, а также и на федеральном уровне, преуспевает в реализации разделительных и вредных для многих людей проектов. Попробуем в этой связи высказать некоторые рекомендации в области религии, образования и языковой политики.
А) Признание религии
Религия является одним из проявлений культурного многообразия и без эффективной религиозной политики со стороны государства невозможно обеспечить культурную свободу. Казалось бы, самый простой путь – это объявить об отделении церкви от государства и соблюдать светский характер власти, предоставив религиозным институтам и общинам возможности саморазвития и взаимодействия. Однако этого недостаточно. Религиозные доктрины могут иметь крайние формы проявления и стать источником экстремизма и насилия, чего не может допустить государство и общество в целом. Религиозные институты склонны к соперничеству в борьбе за паству и могут претендовать на исключительный статус за счет исключения или притеснения других религиозных направлений и их последователей, а некоторые мировые религии и секты осуществляют прозелитизм в глобальном масштабе в ущерб так называемым традиционным религиям на той или иной территории или среди того или иного населения.
Государство, уважая равноправие религий и их последователей, тем не менее, должно учитывать сложившуюся в стране и в ее регионах религиозную ситуацию, при необходимости ограничивая агрессивный прозелитизм и религиозный экстремизм. Наконец, религиозная политика как часть политики многокультурности содействует устранению последствий религиозных гонений, конфликтов и дискриминации, которые имели место в прошлом во многих странах, а в странах бывшего СССР тем более. Без государственной поддержки и при невысоком уровне жизни населения восстановление некогда разрушенной религиозной жизни трудно восстановить и это является одним из приоритетов государственного управления в данной области. Наконец, власти и общественность оказывают необходимое содействие в просвещении верующих и неверующих по части религиозных воззрений населения и в организации межконфессионального диалога и обеспечения толерантности. Государства – какими бы ни были их исторические связи с религией – несут ответственность за защиту прав и обеспечение свобод всех своих граждан и за отсутствие дискриминации (в интересах кого-то или против кого-то) на религиозной почве.
В России за последнее десятилетие произошли радикальные изменения в развитии религиозной ситуации и в отношении общества к религии. Возродили активную религиозную жизнь представители православия (открылись тысячи новых храмов и сотни новых монастырей, зарегистрировано более 10 тысяч религиозных организаций), ислама (построено 6 тысяч мечетей, свыше 3 тысяч организаций), иудаизма (новые синагоги, связи с Израилем, учебные заведения), буддизма, и других религий. Религиозная жизнь и деятельность, а также политика регулируются законами, которые носят в целом демократический характер. Однако в области обеспечения религиозных прав и свобод, а также предотвращения религиозного экстремизма есть свои проблемы.
В период деятельности радикальных этнонационалистических движений в 1990 гг. в регионах Северного Кавказа и Поволжья родилась идеология политического ислама, в том числе в формах религиозного джихада (борьба с неверными), которая была использована для вооруженной сецессии или для замены государственной власти властью муфтията. Силовые и правовые меры властей позволили ликвидировать угрозу разрушения государства и установления религиозных фундаменталистских режимов в таких регионах, как Чечня и Дагестан, хотя террористическая деятельность под исламистскими лозунгами и при поддержке структур международного терроризма продолжается. Вместе с исламским экстремизмом в российском обществе возникла проблема антиисламских фобий и распространения дискриминационных практик в отношении верующих мусульман. В Республике Дагестан был принят сверхжесткий закон против ваххабизма, который таррикатисткий ислам способен использовать против сторонников других направлений в этой религии.
Одной из причин напряженности в религиозной сфере стало распространение различных культов и сект, а также мифологизированной религиозной эклектики. Так, власти и националистически настроенные активисты ряда республик (Якутия, Южная Осетия, Мари Эл, Мордовия, Алтай) вместе с новыми религиозными прозелитами пытаются осуществить возврат к религиозным корням (это называется «возрождение национальной религии») местного нерусского населения. Речь идет об языческих культах и древних религиозных практиках, которые два-три века тому назад были замещены православием. Хотя крещение аборигенов далеко не всегда было добровольным, как это происходило повсеместно в мире в эпоху утверждения больших религий, уже много поколений верующих осетин, якутов, марийцев и мордвы исповедуют православие, как истово исповедуют католицизм индейцы Северной, Центральной и Латинской Америки или протестантизм аборигены Гавайских островов. Попытка объявить православие навязанной, чужой, «не национальной» религией, а языческие культы – «национальной религией» представляет собой образец культурного фундаментализма, разрушающего как местные устои, так и интеграционные возможности представителей российских меньшинств (последний термин крайне условен по отношению к нерусским российским национальностям).
Если культурные различия этнического характера носят подвижный, сложный и не взаимоисключающий характер, то в сфере религии границы различий имеют более жесткий характер, а такие религии, как ислам, объявляют преступлением против религии переход человека в другую веру. Религиозная идентичность среди верующих формируется достаточно рано через воздействие семьи или проповедников и трудно поддается компромиссу. Доклад о человеческом развитии 2004 года формулирует три аспекта обеспечения религиозной свободы в качестве приоритетов государственной политики в этой области. Это – предоставление не только свободы веры, но и права на «многоголосие» в интерпретации догматов веры в рамках одной религии. Это – не предоставление религиозным иерархам каких-либо политических и социальных привилегий. Это предоставление всем религиям простора для дискуссий по вопросам веры с правом приверженцев одной религии критиковать с позиций социальной ответственности практику и верования других религий. Это предоставлять индивидам свободу не только критиковать религию, к которой они принадлежат, но и отвергать ее ради другой либо оставаться вне религиозной жизни вообще.[8] Для России эти рекомендации представляются применимыми, хотя их недостаточно для обеспечения межрелигиозной толерантности и кооперативных отношений между религиозными организациями и группами и государством.
Б) Политика многоязычия.
Язык есть одна из важнейших форм человеческой коммуникации и в то же время язык остается отличительной чертой этнической общности и одной из основ ее культурного арсенала. Если в этнических и религиозных вопросах для государства возможно и даже желательно оставаться «нейтральным», подобная позиция в отношении языка является непрактичной. Понятие гражданства требует общего языка для укрепления взаимопонимания и эффективной коммуникации. Ни одно государство не может позволить себе обеспечивать услуги и выпускать официальные документы на каждом из языков, используемых на его территории.
В многоязычных обществах, каковым является Российская Федерация, языковая политика обычно направлена на признание права использовать те языки, на которых разговаривает население в той или иной местности или принадлежащее к той или иной языковой группе, даже если она проживает дисперсно. В законах, в том числе и в российских, как бы закрепляется международная формула: «Пусть каждый имеет возможность пользоваться своим родным языком в некоторых сферах – например, в школах и университетах, но при совместной деятельности, особенно в общественной жизни, давайте использовать один общий язык».[9] Это всего лишь минимум в определении политики языкового плюрализма, который, однако, соблюдается далеко не во всех странах. Во многих развитых странах с крупными разноязычными общинами закон устанавливает официальное дву- или троязычие и выделяет средства на выполнение такого закона. Кроме этого, не только позволяются, но и поддерживаются языки многочисленных меньшинств, если они этого желают.
Опыт языковой политики в СССР был уникальным с точки зрения сохранения и развития языкового многообразия: около 70 языков получили разработанную письменность, издавалась литература и велось преподавание на десятках языках народов СССР. В то же самое время советская модернизация и централизаторская политика государства обеспечивались во многом через русскоязычные управление и идеологию, а сами представители нерусских национальностей в целях жизненного преуспевания переходили на русский язык как язык государства, общенациональной культуры и подавляющего большинства населения. В принципе эта ситуация сохранилась и в постсоветской России, где русский язык объявлен законом как государственный язык, но официальное двуязычие и многоязычие установлено в ряде республик.
Как и в ряде других государств, в России существует дилемма: как использовать языковую политику для обеспечения эффективного государственного управления и в интересах большинства, но соблюсти языковые права малых групп населения, не закрывая им возможности языкового выбора. Здесь сталкивается представление о некой идеальной норме (каждый народ имеет право на свой язык) и представление о языковых правах индивидов. По большому счету не существует «права на язык», но есть права, имеющие отношение к языку. Догмам языковой политики и устремлениям этнических элит часто противоречит языковая стратегия простых людей, особенно родителей, желающих предоставить больше возможностей для своих детей в рамках большого общества. И здесь действует простое правило: если меньшинство может навязать свой язык большинству только силой, то многие представители меньшинств делают выбор в пользу доминирующего языка добровольно. Тем самым, родным языком является не язык, который совпадает с языком национальности, а основной язык, которым человек владеет и которым пользуется. Таким языком для многих представителей нерусских национальностей в нашей стране является русский язык.
Однако языковой репертуар современного человека не ограничивается одним языком и все больше нормой языковой ситуации становится двуязычие и многоязычие, которое имеет функциональный характер: в одних сферах и ситуациях больше используется один язык, в других – другой язык. В России двуязычие широко распространено, и оно поддерживается государством, особенно региональными властями. Однако здесь возникают коллизии, которые могут приводить к напряженности и к конфликтам на языковой почве. Один из таких недавних конфликтов возник в Татарстане на почве проекта перевода обучающегося татарского населения республики с кириллицы на латинскую графику. Аргументы местного этнонационализма и властей республики сводятся к тому же принципу восстановления прошлого или возврата к некогда существовавшей норме. Используется аргумент свободы выбора и права на коллективное самоопределение в отношении групповых культурных институтов. Но трудно себе представить более разрушительный проект для судеб тех молодых людей из числа этнических татар, кто решится или будет вынужден получить образование и обучиться письму на основе латиницы, т.е. не на основе графики, которой пользуется основное население страны, включая большинство российских татар. Едва ли можно представить себе более разительный случай масштабного и продуманного со стороны периферийного национализма «исключения из участия в преобладающем направлении культуры».
Почему такая политика осуществляется и почему она считается позволительной – это другой вопрос. Ответ содержат в себе не только ссылки на стремление сохранять самобытность, чтобы поддерживать особый статус республики-государства в рамках Российской Федерации, и не только, чтобы дистанциироваться от доминирующей культуры и ее политического центра, и не только, чтобы лучше интегрироваться в мировое латинографическое информационное пространство. Ответ содержится также и в устремлениях политического сепаратизма, т.е. в укреплении его базы институтами радикальной культурной отличительности. Ответ кроется в новых геополитических соперничествах, когда так называемый «тюркский мир», возглавляемый латинографической Турцией, а точнее – политический пантюркизм, приступили к расширению сферы своего воздействия в постсоветском пространстве, которое после распада СССР представлялось как некая terra nullis (ничейная земля).
Хотя Государственная Дума приняла закон, позволяющий смену графики в стране или в ее регионе только по решению федеральных органов власти, вопрос для политики остается: как совместить свободу частного культурного выбора и культурное многообразие без ущерба для многих других, кто политически молчалив и не способен оценить возможный ущерб сегодняшних политических решений для следующего поколения? Система образования – это то, что касается всех. Тогда может быть необходим референдум, но среди кого – всего населения Республики Татарстан, если это делается в интересах населения республики, или всех российских татар, если это делается от имени и в интересах татарского народа? Понятно, что не среди татар Татарстана, которые не обладают правом говорить от имени как республиканского сообщества, так и российских татар.
В) Поликультурное образование
Идеология частных корней мешает и может наносить вред представителям национальных меньшинств и эта идеология должна быть скорректирована. Необходимы программы и проекты, а, возможно, и законы, которые бы решали или хотя бы способствовали реализации свободного выбора и социального преуспевания представителей разных культурных традиций в общероссийском пространстве в рамках доминирующей русскоязычной российской культуры. «Причины скептического отношения к автоматическому предоставлению приоритета культурным традициям, доставшимся по наследству, должны рассматриваться с учетом того, кто выбирает и что он/она выбирает.»[10] Родительские стратегии и устремления самих молодых людей чаще всего радикально расходятся с призывами этнических активистов и с установками властей. Кажущаяся ленность в изучении «родного языка» и переход на русский язык в семейной обстановке, поступление в московский вуз, брак с иноэтничным партнером – все это представляется этническим предпринимателям как «предательство» по отношению к родной культуре и должно пресекаться или находить противодействие через политику. Но отвечает ли это устремлениям самих людей и тому выбору, который они решили сделать? Конечно, нет. А это означает необходимость в этнокультурной политике выстраивать более широкие приоритеты и предоставлять более широкие возможности.
Если речь идет о сфере образования, то здесь эти более широкие возможности не должны сводиться только к дополнению государственного образовательного стандарта и системы образовательных учреждений так называемым этнокультурным или региональным компонентом. В России в последние годы было сделано много, в том числе и позитивного, в области утверждения концепции и реального развития поликультурного образования. Изданы научные труды и педагогические пособия, проводятся конференции, реально действуют сотни школ. Однако инерция советского концепта «национальной школы» как особой школы для представителей отдельного народа фактически осталась жива за фасадом «поликультурного» или «с этнокультурным компонентом» образования. Вся эта система исходит из наличия в отдельной школе или отдельном классе монокультуры и культурной чистоты (армянская, грузинская, татарская, еврейская школы или армянские, грузинские, татарские, еврейские классы). И хотя сторонники и участники этой системы заявляют, что такие школы и классы открыты для всех, но на самом деле это только формальное заявление, ибо в ментальном отношении это закрытые культурные корпорации: в них обучают монокультуре или нескольким монокультурам, а не культурной сложности и культурной открытости.
Как реакцию как самомаргинализацию (маргинальность нами видится именно в уходе в монокультуру, а не в выходе из нее) энтузиастов «национальной школы», ответную логику действий демонстрируют русские этнонационалисты, учреждая «русские национальные школы». Последние концепт и политика исходят от представителей референтной (основной) этнической культуры в составе общероссийского культурного комплекса, который ближе всего и больше всего совпадает с основным культурным потоком («преобладающим культурным направлением») страны. Они действительно могут находить поддержку большинства и их труднее отличить от позитивных гражданско-патриотических воззрений и действий. Но на самом деле концепт «русской национальной школы» или «русского национального компонента» не менее, а даже более разрушителен для сохранения культурного многообразия, реализации культурной свободы и проведения политики толерантности. Этот концепт, во-первых, исключает культуры меньшинства из образа страны и ее населения, во-вторых, он закрывает путь общероссийскому национальному проекту. Национальной школой в России может быть только российская школа, а не русская или татарская. Такой подход открывает новое и обширное поле для политиков и законодателей, которые уже успели многое натворить в рамках старого подхода.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] См.: T. Martin. The Affirmative Action Empire. Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923-1939. Ithaca and London: Cornell University Press, 2001.
[2] Доклад о человеческом развитии 2004. Культурная свобода в современном мире. М., 2004.
[3] Доклад о человеческом развитии 2004, с. 17.
[4] Там же, с. 21.
[5] См. подробнее: В.А. Тишков. Реквием по этносу. Исследования по социально-культурной антропологии. М., Наука. 2003.
[6] О проекте см.: T. R. Gurr. Minorities at Risk. A Global View of Ethnopolitical Conflicts. Washington, DC: United States Institute of Press, 1993; Idem. People Versus States. Washington, DC: United States Institute for Peace Press, 2000. А также обновляемая база данных «Меньшинств под угрозой» на сайте данного проекта в Интернете: www.cidcm.umd.edu/inscr/mar
[7] Доклад о человеческом развитии, с. 21.
[8] Там же, с. 67.
[9] Там же.
[10] Там же, с. 21.
