

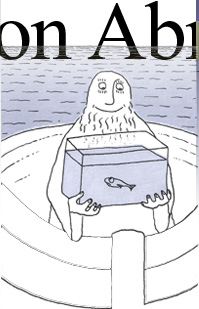
В.Кабо
Вечное настоящее
II. Народ и власть
Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «Смотри, вот это новое»; но и это было уже в веках, бывших прежде нас.
Еккл. 1:9, 10
Случилось это в Ленинграде, в 1926 году, во время обеда в честь приехавшего из Москвы Сталина, генерального секретаря партии и члена Политбюро. Обед происходил на квартире Кирова, в непринужденной товарищеской обстановке. Киров произнес несколько приветственных слов. Он сказал, как трудно большевикам жить и строить социализм без Ленина, но они уверены в успехе, потому что их ведет Центральный комитет партии и его Политбюро. Тогда слово взял Сталин. Центральный комитет и Политбюро – это прекрасно, – сказал он, – но не забывайте, что мы живем в России, а русскому народу нужен царь, он привык, чтобы во главе страны стоял самодержец.[1]
Странно было большевикам, участникам революции, уничтожившей монархию, слышать эти слова. Но отдадим должное Сталину: он понимал психологию русского народа лучше, чем они. Не только понимал – он сам хотел стать русским царем. И он станет им, станет абсолютным властителем, жестокостью и вероломством не имевшим равных в русской истории, он уничтожит миллионы людей, в том числе всех своих реальных и мнимых соперников, включая Кирова.
Прошлое России все еще висит над ней подобно тяжелому кошмару. Наследие Сталина оставило глубокий отпечаток на жизни страны и сознании народа, оно живо и сегодня и подтверждает его правоту: Сталин оказался лучшим социальным психологом, чем многие демократы и либералы – наши современники. Не знаю, читал ли Сталин Шпенглера: «Примитивный московский царизм – это единственная форма, которая еще и сегодня в лучшей мере соответствует русскому духу».[2] Думаю, он в чтении Шпенглера не нуждался: он понимал это и сам.
Есть, вероятно, правда в том, что исторические эпохи неповторимы и во многом недоступны пониманию потомков. Как бы мы не хотели этого, нам трудно, а порою невозможно понять людей далеких от нас эпох, мотивы их поступков, проникнуть в таинственные пружины событий того времени. Понимание истории как необратимого процесса – одно из главных свойств исторического сознания, этим оно отличается от мифологического сознания, воспринимающего мир как повторение, воспроизведение мифологического прецедента. Мы погружены в историю, как в необратимый поток времени. Прошлое ушло навсегда, мосты между ним и нами сожжены. Впрочем, что-то в истории все же повторяется, это мы готовы допустить; но что и в силу каких причин?
Философ Иван Ильин в опубликованной в эмиграции работе «Почему сокрушился в России монархический строй?» писал: «В 1917 году русский народ впал в состояние черни; а история человечества показывает, что чернь всегда обуздывается деспотами и тиранами». Ильин признавал, таким образом, что в истории существуют явления повторяющиеся, имеющие закономерный характер. «История как бы вслух произнесла некий закон: в России возможны или единовластие, или хаос; к республиканскому строю Россия неспособна».[3] Глубокие причины одного из величайших событий русской истории Ильин видел не в политике или экономике, а в сфере духа, в духовном кризисе народа. Катастрофа, постигшая Россию в 1917 г., была вызвана, по его мнению, кризисом русской религиозности. Эту мысль Ильин выразил и в других сочинениях, например в статьях «Возникновение большевизма из духовного кризиса современности» и «Дух и сущность большевизма», где он утверждает, что большевизм – «массовое состояние души», «духовная болезнь».[4] Большевизм, следовательно, не навязан русскому народу, а уходит своими корнями в недра его духовной жизни.
Как явление духовной жизни понимали русскую революцию и другие русские мыслители. Николай Бердяев характеризовал государственно-политический строй, утвердившийся в России после революции, как идеократию – форму политического господства, опирающегося на идеологию, призванную заменить собою упраздненную религию. Вторжение государства во все сферы духовной жизни общества, руководство духовной культурой – важнейшие функции идеократического государства. Оно контролирует мысли и души людей. Коммунистическое государство – пишет Бердяев – «понимает себя как Церковь и заменяет Церковь». Христианство, по его словам, «не допускает власти государства над человеческими душами, над духовной жизнью». Человек, в христианском понимании, «выше государства».[5]
Власть официальной идеологии, которая стала новой религией, и правящего социального слоя как ее носителя и хранителя ее чистоты – вот чем было по существу советское государство. Человек в нем был «ниже государства», он был слугой государства, более того – его рабом. Такое отношение к государству – не новая черта, оно воспитывалось в русском народе столетиями, оно успешно культивировалось советским государством и сохраняется и сегодня. Для российского массового сознания государство по-прежнему выше человека, интересы государства выше, важнее интересов личности. Русский человек по-прежнему ощущает себя слугой государства или, по крайней мере, смотрит на него как на некую стихийную силу, находящуюся вне его контроля, подобную погоде или стихийному бедствию.
«Россия никогда не выходила окончательно из средневековья, из сакральной эпохи, – писал Бердяев в другом месте, – и она как-то почти непосредственно перешла от остатков старого средневековья, от старой теократии, к новому средневековью, к новой сатанократии».[6] Для Бердяева понятие теократии – власти, совмещающей политические и религиозные функции, окруженной религиозно-мистическим ореолом, – по-видимому, было равносильно понятию идеократии. Но он сознавал, что власть Бога – буквальное значение слова «теократия» – не очень подходит для характеристики государства, в котором жизнью и душами людей овладел Сатана. Так или иначе, истоки того, что произошло в России, по мысли Бердяева, следует искать в ее социально-политических, культурных и умственных традициях, несущих отпечаток эпохи, когда они формировались, – Московского царства, может быть, еще Великого княжества московского. Эпохи, когда впервые в употребление вошли титулы «царь» и «самодержец», когда появились такие понятия как «государь – помазанник Божий», – на нем и его власти лежит благословение Бога, – как «Москва – третий Рим», наследница священной власти византийских императоров.
Ощущение преемственности власти обитателей московского Кремля – московских царей и их наследников – хорошо передано Анной Ахматовой:
Стрелецкая луна. Замоскворечье. Ночь.
Как крестный ход идут часы Страстной Недели.
Мне снится страшный сон. Неужто в самом деле
Никто, никто, никто не может мне помочь?
В Кремле не надо жить – Преображенец прав.
Там зверства древнего еще кишат микробы:
Бориса дикий страх, и всех Иванов злобы,
И Самозванца спесь – взамен народных прав.
И хотя под Преображенцем имеется в виду, несомненно, Петр I, преемственность, доходящую до наших дней, чувствовали и советские цензоры: в моем двухтомнике Ахматовой, изданном в 1987 году, этого стихотворения все еще нет. В самом деле, а кто же этот Самозванец?
Это же ощущение преемственности передано в драматических сценах второй части кинофильма Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный» – сценах политических интриг и убийств, кровавого разгула опричнины, – за которой легко угадывается другая, сталинская опричнина, – и зловещего пародирования православного ритуала. Передано с откровенностью гения – ведь фильм был снят в годы сталинщины.
Преемственность чувствовал, и стремился выразить в фильме, не только его автор, но и заказчик фильма, сидевший на троне московских царей. Но то, что получилось, его не удовлетворило: ведь он был самозванец, ему нужен был другой фильм – просто утверждающий его право на трон, без опасных аллюзий.
Самозванство – явление очень типичное для России. Российское самозванство не раз высмеивалось в художественной литературе – от гоголевского Хлестакова до Остапа Бендера в роли сына лейтенанта Шмидта, – но, кажется, никогда еще объектом сатиры не бывали самозванцы, сидящие на троне. Есть, впрочем, исключение – «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» А.К.Толстого. И русский человек, как и в давние времена, по-прежнему испытывает потребность в истинном царе, и его ожидания почти всегда оказываются обманутыми.
Россия на протяжении столетий была крестьянской страной. Менталитет русского народа, в том числе значительной части интеллигенции, исторически сложился как менталитет крестьянский. Для социальной психологии русского крестьянства характерны социально-утопические чаяния, вера в справедливого царя.[7] История России – в каком-то смысле смена одних утраченных иллюзий другими; постоянство сохраняется лишь в одном – в вере в государственно-монархический идеал. Народ может разочароваться лишь в очередном субъекте народных чаяний, но не в самом принципе абсолютной власти. В массовом сознании носителю монархического идеала – последнему царю Николаю II – даже приписываются сверхъестественные свойства. Икону с изображением Николая II как святого еще недавно возили по России и, как говорят люди и утверждает сама церковь, икона совершила многочисленные чудеса.[8]
Сталину удалось сделать больше, чем сесть на трон московских царей, – он сумел поставить себя, в народном сознании, на место Бога. Он казался сверхчеловеческим существом, всемогущим, всеведущим, бессмертным и, в то же время, загадочно-непроницаемым. Он понимал, что власть должна быть таинственной, что сила власти не только в авторитете, не только в способности совершать невозможное, но и в тайне. Известно, что он читал Макиавелли, но у него мог быть и другой наставник. Вспомним Великого инквизитора из «Братьев Карамазовых» Достоевского, вспомним его слова: «Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков для их счастия, – эти силы: чудо, тайна и авторитет».
Конечно, Сталин опирался, прежде всего, на тайную полицию, на репрессивный аппарат. Но он хотел, и достиг, большего, он сумел окружить свою власть религиозно-мистическим ореолом. И в этом его власть продолжала традиции далекого прошлого – не только русского или европейского Средневековья, не только Византии, но и Древнего Востока: прообраз ее – власть обожествленных царей Египта и Месопотамии.
По словам непосредственного свидетеля эпохи, советская страна жила в «атмосфере массового психоза», в «поле действия демонических сил».[9] Власть Сталина обращалась к народу то темной, то светлой, то зловещей ночной, то праздничной дневной стороной. Культ Сталина и других большевистских вождей имел религиозный, точнее псевдорелигиозный характер, граничащий со спиритизмом. Известны случаи посмертных явлений Сталина разным людям – об этом рассказывает Андрей Синявский. Являлся людям и давно умерший Ленин. Старая большевичка Дора Лазуркина, выступая на XXII съезде КПСС с предложением о выносе тела Сталина из Мавзолея, мотивировала это так: «Вчера я советовалась с Ильичем, будто бы он передо мной как живой стоял и сказал: мне неприятно быть рядом со Сталиным, который столько бед принес партии».[10] Думаю, что слова «будто бы» добавили те, кто редактировал выступление Лазуркиной. Она услышала свой внутренний голос, такой же явственный, какой слышит глубоко верующий человек, беседующий с Богом, и, возможно, увидела самого собеседника. Конечно, Лазуркина была материалисткой, такой же, каким был Ленин, но ведь обожествление вождей не имеет ничего общего с материализмом. В сознании членов партии, и вообще в общественном сознании, оно причудливо сочеталось с материализмом и атеизмом. Там, где дело идет об обожествленных вождях и героях, даже материалисты вступают в поле действия таинственных, иррациональных сил.
В.Роговин называет отношение большевиков к сталинскому руководству в годы сталинщины «фетишистским».[11] Но не граничит ли с первобытным фетишизмом, с наказанием фетиша, не оправдавшего надежд, и решение съезда партии убрать тело Сталина из Мавзолея?
Советская страна в сталинское время превратилась в огромное заколдованное царство, – царство некоего Кащея Бессмертного, во главе которого стоял главный маг и чародей Сталин. Здесь слово становилось делом. Диалектический материализм из теории, претендующей на научность, превратился в набор магических формул, позволяющих совершать чудеса, в орудие заклинания природы. Стирались границы между возможным и невозможным. Советская наука меняла самые законы природы, законы наследственности, создавала новые формы жизни. Фигура Сталина, благодаря его сверхъестественным качествам, его универсальному гению, заслонила собою самого Бога – в его волшебном царстве, трудами биологов Г.Бошьяна и О.Лепешинской, из мертвой материи творилась сама жизнь. И хотя советские ученые еще не могли обещать людям вечную жизнь, но продление жизни, по крайней мере, до двухсот лет они считали вполне возможным и достижимым в Стране советов.[12]
Нет ничего удивительного, что классик советской литературы Леонид Леонов восторженно вещал тогда на страницах газет: «Есть два солнца в небе. Одно из них – солнце сталинских идей».[13] Божество приобретало космические черты. Леонов даже предложил начать новую эру летоисчисления со дня рождения Сталина как нового Спасителя человечества.
Древняя жажда чуда, жажда вечной жизни неискоренимы. Несколько лет назад некий доктор технических наук и ясновидец Грабовой опубликовал в России книгу «Воскрешение людей и вечная жизнь – отныне наша реальность». В книге описаны «реальные» случаи и методы воскрешения. Имя ее автора стало очень популярным. Это симптоматично для смятенного состояния умов российского обывателя: утрачено понимание того, где кончается наука и начинается шарлатанство. И даже если бы воскрешение и тем более вечная жизнь, в материальном, физическом смысле, были возможны, это было бы катастрофой для человечества. Что рассуждать о вечной жизни, если люди нравственно не готовы даже для этой короткой жизни, данной им Богом? Вспомним только что закончившийся ХХ век; а в новом столетии, судя по всему, нас ждут новые бедствия.
В исторической перспективе большевизм предстоит не только как национальное явление, но и как явление архетипическое, воспроизводящее некоторые древние архетипы общечеловеческого сознания. Среди таких архетипов одно из важнейших мест во многих мифологических системах мира принадлежит архетипу Спасителя, воплощенного в образах героев или божеств-спасителей человечества. Таким Спасителем был еврейский Мессия. Извечной человеческой потребности в Спасителе отвечает и образ Христа.[14] Вот почему две великие мифологемы ХХ в., – германская нацистская и советская коммунистическая, – созданные на почве потребности людей в Спасителе, отвергли Христа, чтобы на его место поставить других спасителей, Гитлера и Сталина, а христианство заменить иными религиозно-мифологическими парадигмами. Любопытно, что один из главных документов современного мифологического сознания так и называется: «Миф ХХ столетия»; автор его – немецкий нацист А.Розенберг. В послевоенной Германии, как известно, произошли коренные сдвиги в сознании общества, в то время как в России архетип Спасителя продолжает доминировать в коллективном сознании, ища новых воплощений.
В советское время сформировался тип личности, которую социологи называют тоталитарной,[15] – носительницы тоталитарного сознания, верящей в простой, понятный мир, расколотый на силы добра и света, с одной стороны, зла и тьмы – с другой. С первыми ассоциировался Советский Союз, со вторыми – его многочисленные враги внутри страны и за ее пределами. Диктаторам нужен враг – а если его нет, его можно выдумать: в обстановке ненависти, страха, массовой истерии, помраченного, мифологизированного сознания проще управлять людьми. Советский Союз можно заменить Россией, русским народом, – от этого ничего по существу не изменится. Этот тип личности, по-видимому, все еще широко распространен в России. Для него характерна любовь к авторитарному правителю, вождю, диктатору. Народ может ненавидеть и презирать министров, чиновников, даже плохого царя, недостойного своего высокого призвания, но гнев народа не обращается на священную особу носителя авторитарной власти, пока она продолжает удовлетворять его потребность в Спасителе.
По словам Дмитрия Мережковского, «русская революция не политика, это религия, и это трудно понять Европе, где религия давно стала политикой».[16] Религиозный лик грядущей русской революции предвидел Достоевский. О религиозном характере и религиозных истоках русской революции пишет в книге «Советская цивилизация» Андрей Синявский. Марксизм, пересаженный на русскую почву, ассимилированный русским национальным сознанием, превратился из научной теории в предмет религиозной веры, в псевдорелигиозную идеологию, на которой утвердилась авторитарная марксистская церковь, органически слившаяся с государственной властью, жестоко преследующей еретиков, отступников от истинного учения. Маркс воспринимался, прежде всего, как пророк социальной революции, подобный библейским пророкам, а грядущее тысячелетнее коммунистическое царство хорошо отвечало христианскому эсхатологизму, глубоко укорененному в народном сознании. Расправы с «врагами народа» приобрели в сталинское время характер человеческих жертвоприношений, занимавших такое важное место в религиях многих древних обществ. Многолюдные собрания, на которых люди требовали физического уничтожения «врагов народа», стали необходимым ритуалом приобщения народа к акту жертвоприношения, осуждения дьявола и отождествления с божеством в лице верховного носителя государственной власти.
Еще У. Робертсон-Смит утверждал, что акт жертвоприношения был в первобытном обществе важнейшим обрядом, объединяющим божество и его почитателей в ритуальном приобщении последних к плоти и крови жертвы. В этом священном акте, прочно связывающим членов первобытной общины друг с другом и с их богом, люди периодически утверждали свое единство.[17] Этнография не подтверждает полностью гипотезу Робертсона-Смита, но зато его модель реализовалась в нашу эпоху, – с той, правда, поправкой, что советские люди, конечно, не ели мясо «врагов народа» и не пили их кровь в буквальном смысле слова.
Ритуальное умерщвление «врагов народа» имеет еще одну аналогию в далеком прошлом человечества: оно очень напоминает когда-то повсеместно распространенные обряды расставания с прошлым и обновления мира, обряды возрождения жизни, которые сопровождались символическим уничтожением прошлого в образах, олицетворяющих мрак и смерть. Как позднее на «врагов народа», на них возлагалось, и с ними должно было исчезнуть, все зло мира. Истоки этих обычаев лежат еще глубже, в обрядах архаических охотников и собирателей, ориентированных на возрождение жизни в природе и обществе.[18]
Если кто-то сомневается в существовании архетипических явлений, восходящих к глубокой древности и способных возрождаться в разное время и в разных культурах, не имеющих между собой ничего общего, – пусть посмотрит на мавзолей Ленина. Его архитектура восходит к зиккуратам Шумера – храмам одного из древнейших государств Месопотамии. Он символизирует посмертное обожествление вождя и возрождение древневосточной деспотии. Если Ленин был обожествлен после смерти, то его преемник, Сталин, уже при жизни. Как обожествленному древневосточному царю, ему приносились гекатомбы человеческих жертв, а в его государстве трудились миллионы рабов. Кто будет говорить после этого о необратимости истории? Древние архетипы общечеловеческого сознания, архетипические явления культуры и общественной жизни в благоприятных обстоятельствах возрождаются снова и снова, древние мифы, скрытые в глубинах общественного сознания, в благоприятных условиях вновь выходят на поверхность. Развенчание культа Сталина его преемниками привело лишь к потребности, смутно ощущаемой и правящими верхами, и народными массами, замещения утраченных мифов и утраченной веры другими мифами и иной верой.
Коллективное сознание обладает противоречивым свойством не только выносить на поверхность скрытые в его глубинах древние пласты, но и забывать недавнее прошлое, о котором оно хотело бы забыть. И смутное желание российского общества постараться забыть свое прошлое можно понять. Ведь чтобы держать за решеткой миллионы заключенных, как это было в сталинское время, нужны были другие миллионы, которые сажали их туда, охраняли их, а ранее, на воле, писали на них доносы в органы госбезопасности. Страна была наводнена доносчиками-«стукачами», а писание доносов стало таким же повседневным, рутинным занятием огромной части населения, как писание писем. Миллионы людей были втянуты в колоссальное преступление, которым был сталинский режим, и эта вовлеченность значительной части населения страны в преступление была надежной опорой власти.
Сеть концентрационных лагерей расползлась, подобно паутине, по всему пространству Советской страны, пересекла двенадцать часовых поясов, в этих лагерях рабского труда, лагерях смерти, по подсчетам Анны Эплбаум, автора новейшего исследования, перебывало 18 миллионов заключенных. Это было, по ее словам, государство в государстве, особая цивилизация со своими законами, порядками, литературой, фольклором, со своей моралью и языком, – которые, вместе с людьми, вышли на волю и стали моралью и языком всей страны.
Наше понимание истории ХХ века останется неполным без истории политических репрессий в Советском Союзе. Но Россия старается забыть об этой странице своего недавнего прошлого, как и о других его темных страницах, – они бросают тень на национальную совесть. История ХХ века будет неполной и без истории сопротивления сталинскому и послесталинскому режиму. Но население России, по крайней мере, значительная его часть, не только не знает своего недавнего прошлого, но и не хочет его знать, хотя духовно оно все еще живет в нем.
Русские любят своих героев и гордятся ими, они помнят о героях и жертвах Великой Отечественной войны, – почему же они не помнят, не знают героев сопротивления сталинскому режиму, участников подпольных кружков, школьников и студентов, исчезнувших в тюрьмах и лагерях? Вспомним хотя бы тех, о ком написал Анатолий Жигулин.[19] А ведь таких было много больше. А героев лагерных восстаний? Почему же эта страна старается забыть о миллионах жертв собственного, отечественного режима?
Последний русский царь и члены его семьи, погибшие от рук большевиков, причислены православной церковью к лику святых; но ведь таких святых мучеников в России были миллионы среди людей всех сословий. Но в России не существует национального мемориала, посвященного их памяти, подобного мемориалу памяти жертв Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Или мемориальному музею Яд Вашем в Иерусалиме, посвященному жертвам Холокоста. Или памятнику жертвам геноцида армян в Ереване. В России нет национального дня памяти жертв сталинского режима, памяти героев, пожертвовавших своей свободой и жизнью во имя сопротивления ему. А в бывшей гитлеровской Германии есть такой день: в этот день, 20 июля 1944 года, было совершено покушение на Гитлера.
Хорошо известны слова Ольги Берггольц, высеченные на памятнике жертвам ленинградской блокады: «Никто не забыт, ничто не забыто». На самом деле многие и многое забыто. Память народа, как и тех, кто им правит, избирательна. Я не знаю, есть ли памятник жертвам сталинского режима в Петербурге, поставленный властями или жителями города. Но я знаю, что существует такой памятник, воздвигнутый, правда, только одним человеком – поэтом Анной Ахматовой. Он не из мрамора и не из бронзы. Это – цикл ее стихотворений «Реквием».
Мой друг по Каргопольлагу, писатель Александр Гладков, еще в лагере, в 1952 году, написал такое стихотворение:
Мне снился сон. Уже прошли века
И в центре площади знакомой, круглой –
Могила неизвестного Зека:
Меня, тебя, товарища и друга...
Мы умерли тому назад... давно.
И сгнил наш прах в земле лесной, болотной,
Но нам судьбой мозолистой и потной
Бессмертье безымянное дано.
На памятник объявлен конкурс был.
Из кожи лезли все лауреаты,
И кто-то, знать, медаль с лицом усатым
За бронзовую славу получил.
Нет, к черту сны!.. Бессонницу зову,
Чтоб перебрать счет бед в молчаньи ночи.
Забвенья нет ему. Он и велик, и точен.
Не надо бронзы нам – посейте там траву.[20]
И сталинский режим, и Великая Отечественная война – объективные исторические факты, значение их одинаково велико, жертвы первого не менее многочисленны, чем жертвы второй, людей, сопротивлявшихся сталинскому режиму, было мало, но героизм от них требовался не меньший, чем на войне. Но общественное сознание, коллективная память устроены так, что миллионы жертв режима оказались как бы в глубокой тени, они почти забыты. Память общества деформирована, но оно не замечает этого. Могут сказать, что власти на протяжении многих лет манипулировали общественным сознанием в своих целях. На это можно возразить, что общество чересчур охотно позволяет собою манипулировать.
Прошлое может вернуться – именно потому, что о нем хотят забыть. Прошлое России, подобно запечатанному сосуду Пандоры, ждет своего часа, – предупреждает Анна Эплбаум.[21]
Тоталитарная идеология все еще обладает большой притягательной силой для очень многих людей. В 1956 году Карл Фридрих и Збигнев Бжезинский опубликовали книгу «Тоталитарная диктатура и автократия». Среди признаков тоталитарного режима они называют такие: власть находится в руках единственной политической партии, точнее ее верхушки, экономика централизована, власть контролирует средства массовой информации и опирается на тайную полицию. Ведущее место в ряду признаков тоталитарного режима принадлежит официальной хилиастической идеологии – идеологии Спасения. Террористический тоталитарный режим авторы противопоставили авторитарному. Я бы добавил, что второй предшествует и ведет к первому.
Ханну Арендт в книге «Происхождение тоталитаризма», опубликованной в 1951 году, интересовала, в первую очередь, именно идеология тоталитарного режима – его метафизика. Отличительной чертой тоталитаризма является некая высшая идея, или цель, которой он служит. Нацистов воодушевляла идея торжества арийской расы и грядущего тысячелетнего рейха, советских коммунистов – идея будущего коммунистического общества. Теми и другими руководила по существу одна и та же хилиастическая идеология, в которую вкладывалось различное содержание. Ханна Арендт была, среди западных интеллектуалов, одной из первых, кто сравнивал фашистский и коммунистический режимы как однотипные и отказывался проводить моральную границу между гитлеровской Германией и сталинской Россией. Она ошибалась лишь в одном: она полагала, что тоталитаризм – явление двадцатого столетия, что он порожден социальными кризисами современного общества. В действительности он имеет древние и прочные корни в общественном сознании и с двадцатым веком он не исчезнет. В благоприятных условиях он возродится снова, и снова большую роль в нем будет играть идеология Спасения, вокруг которой выстроятся другие социально-политические институты, соответствующие условиям своего места и времени.
Тоталитарная идеология не знает ни национальных, ни конфессиональных границ. Можно ли привести народ Ирака к демократии, если он предпочитает теократию? Можно ли привести народ России к демократии, если он, – как дважды показала его история в ХХ веке: в 1917 году и в 1990-е годы, – предпочитает что-то совсем другое?
В книгах середины прошлого века, таких как «Бегство от свободы» Эриха Фромма, «Мрак в полдень» Артура Кестлера», «1984» Джорджа Оруэлла, «Жизненный центр» Артура Шлезинджера ведущая идея была та же, что и у Ханны Арендт: «тоталитарный человек» – продукт современного общества. Идея ошибочная: человек этого типа вечен. Корни фашизма не в экономике, а в душах людей, – писал американский философ Льюис Мамфорд. Немного от фашиста есть в каждом из нас.[22]
Подлинным пророком тоталитаризма, который предчувствовал его приближение и разглядел в нем реализацию вечных, метафизических свойств человеческой природы, был Франц Кафка. В его романе «Процесс» я вижу художественно обобщенную метафору тоталитарного государства, подобного сталинскому, которое было исторически высшим выражением тоталитарногосударственной модели. Жизнь главного героя романа проходит под властью слепой, бездушной, анонимной силы, борьба с которой бесполезна, в ожидании неизбежного и бессмысленного конца. Он признает себя виновным, не зная, в чем его вина, и безропотно следует за палачами, подобно скотине, которую ведут на убой. В сталинских застенках люди погибали «в таком же бесправии, безмолвии, неведении своей вины», – пишет Георгий Адамович.[23]
Творчество Кафки имеет скрытый религиозно-философский подтекст, и роман «Процесс» – прежде всего притча о человеке перед лицом Бога, в нем есть что-то от библейской «Книги Иова». На экзистенциальном уровне роман Кафки – метафора самого человеческого существования. Как же Кафка сумел все это предвидеть – эти машины, созданные для уничтожения человека, какими были сталинское и гитлеровское государства, этот фарс судопроизводства, эту обреченность жертвы, эту безграничность абсурда? Как смог он увидеть этот надвигающийся как кошмар «дивный новый мир», который в его время не видел, может быть, еще никто? Не потому ли, что этот мир совпал с метафизическим смыслом самого человеческого существования? В государстве, подобном сталинскому, человек был поставлен на краю бездны, перед лицом каждодневной угрозы потерять самых дорогих ему людей, лишиться собственной свободы и жизни. Недаром Борис Пастернак, когда ему позвонил по телефону Сталин, предложил поговорить «о жизни и смерти», – ничего другого ему в такой ситуации не пришло в голову. В самом деле, о чем же еще говорить с божеством?
Советские люди, прочитав Кафку, почувствовали, что его кошмарный мир реализовался в их жизни. В шутку они переиначили популярную песню, поставив имя писателя на место слова «сказка»:
Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью...
«Былью» обернулось многое, что, казалось, ушло в далекое прошлое, ушло навсегда. Я уже говорил о царствах Древнего Востока – оказалось, что способны возрождаться даже они. Сталинское государство повторило ведущие черты древневосточных монархий почти буквально – это и централизация власти, и обожествление царя, и труд рабов, и массовые человеческие жертвоприношения. Осип Мандельштам предчувствовал это подобно Кафке, в 1922 году он писал о ХХ веке: «В жилах нашего столетия течет тяжелая кровь чрезвычайно отдаленных монументальных культур, быть может египетской и ассирийской».[24]
Попробую конкретизировать мою мысль еще одним примером и попытаюсь сравнить религиозную реформу фараона Аменхотепа IV, правившего в Египте в XIV веке до н.э., в эпоху Нового царства, с тем, что произошло в России после революции. Аменхотеп IV (Эхнатон) упразднил культ верховного бога Амона-Ра и других богов и провозгласил культ единого бога солнца Атона. Амон-Ра был патроном царствующей династии, символом единства страны, народа и царской власти. Культ Амона-Ра имел глубокие корни в традиционном народном мировоззрении, пронизанном архаическим магизмом. Эти черты сближают египетскую религию фиванского периода с православием как национальной религией и особенно с народным православием как своеобразным продуктом переработки христианского вероучения народной стихией. Реформа Аменхотепа IV сопровождалась борьбой с влиятельным и властным жречеством. В России официальная марксистская идеология, призванная заместить собою православие и другие вероисповедания, превратилась в новую религию, марксистские идеологи – в жрецов марксистского культа; процесс этот сопровождался преследованием православной и других церквей и репрессиями священников.
Обе реформы, – которые правильнее называть «революциями сверху», – были продиктованы политическими и идеологическими соображениями и обе были подготовлены сдвигами в массовом сознании, обострением духовного кризиса, охватившего страну.
О том, что происходило в России, я говорил в начале этого очерка: об этом пишут Ильин и Бердяев, пишут другие русские мыслители, писатели, авторы мемуаров. Андрей Белый, имея в виду прежде всего события своего времени, писал: «Кризис жизни и мира зависит от кризиса мысли: мысль действенна» («О смысле познания»). Ильин, как мы помним, говорил о «духовном кризисе», о «кризисе русской религиозности», и последствия этого кризиса называл катастрофой. Почти теми же словами описывает то, что произошло в Египте, И.Г.Франк-Каменецкий, называя реформу Аменхотепа IV «религиозной катастрофой».[25] Новый культ не был связан с какой-либо национальной традицией, – подобно культу, введенному в России после революции, он имел наднациональный, космополитический характер, он был обращен не только к египетскому народу, но ко всему миру. Реформа Аменхотепа IV была по существу атеистической. Боги, по его утверждению, являются продуктом народной фантазии.[26] Космополитический, универсальный, атеистический характер учения Аменхотепа IV делает его аналогичным марксизму в русской его интерпретации.
Религиозная революция Аменхотепа IV была попыткой искусственно ввести в Египте монотеизм. Исторически она была далекой предшественницей израильского монотеизма; но она опередила свое время. К марксизму как псевдорелигии культ Атона близок своей исключительностью; и тот, и другой не терпели соперников и претендовали на исключительное положение на идеологическом небосклоне.
Добавлю к этому такие факты как уничтожение Аменхотепом IV имени и изображений Амона, а позднее, после смерти Аменхотепа IV, уничтожение его собственного имени и его изображений. Так же поступал Сталин, стремясь уничтожить в народе память о своих поверженных «врагах» – уничтожались их портреты, написанные ими книги, изымались из обращения самые их имена. Так же поступили наследники Сталина и с ним самим. При этом люди руководствовались не только прагматическими мотивами, но и побуждениями религиозно-магического характера – в последних двух случаях ими не осознаваемыми. Это напоминает древний обычай, еще недавно сохранявшийся у некоторых народов, не упоминать имена умерших и уничтожать их изображения.
Древнему Египту и другим древневосточным монархиям было свойственно органическое слияние религии и политики, религиозной и политической жизни, и эта черта тоже сближает их с Советским государством. Празднества в Советском Союзе имели тот же религиозно-политический характер, что и празднества в честь богов с участием фараона в Египте, и по существу преследовали ту же цель – сплочение народа вокруг царской власти под сенью государственной религии.[27] Фиванский некрополь был предшественником и прототипом Красной площади в Москве. Подобно фиванскому некрополю, Красная площадь была одновременно и некрополем, и центром религиозно-политического культа, и местом пышных государственных торжеств с участием советского фараона, его приближенных, армии и народа.
Судьба русской версии марксизма напоминает судьбу культа Атона: обе окончились неудачей. Попытка заменить Амона-Ра культом Атона была еще менее продолжительной – культ Атона господствовал в Египте не более двух десятилетий. В развенчании культа Атона и коммунистической псевдорелигии сыграло свою роль в каждом случае особое сочетание социально-политических явлений. Общим для них, однако, было ощущение, – и правящими элитами, и народными массами, – что Египет, в одном случае, и Россия, в другом, перестали быть «сверхдержавами», перестали доминировать в современном им мире.[28]
Идеи коммунизма не были насильственно навязаны народам России. В них было нечто, отвечающее глубоким народным чаяниям, – надежда на установление справедливого общественного строя. В традиционном христианском сознании эта надежда возлагалась на Бога, он был воплощением справедливости, защитником бедных и угнетенных. Успех коммунистической идеологии в значительной мере объяснялся ее этическим потенциалом. Этическое начало в коммунизме, заложенная в нем вера в установление справедливого общественного строя сближали его с христианством и способствовали превращению его в новую религию. Коммунистическая религия вначале даже удовлетворяла главной особенности всякой истинной религии – в ней сохранялось непосредственное религиозное чувство; интимная связь между Богом и людьми возмещалась здесь связью между верующими и обожествленными вождями, прежде всего Лениным. Он был той сверхъестественной личностью, обращенной к человеку, к которой человек мог обратиться как к высшему, всевидящему судье. Слова «Ленин жив, Ленин будет жить», «Ленин живее всех живых» не были пустыми словами. Вспомним библейские псалмы, в которых так ярко выражена интимность взаимоотношений между Богом и человеком. Человек здесь разговаривает с Богом, и нас не покидает ощущение, что Бог слышит его. То же самое было когда-то и в Советской стране. Но постепенно это религиозное отношение между людьми и их руководителями исчезло, и на людей смотрели уже не обожествленные личности, а «безликие лики вождей», по выражению Александра Галича. Этот сдвиг в массовом сознании был важнейшей предпосылкой крушения коммунизма в Советском Союзе. Интимной связи между Богом и людьми недоставало и культу Атона, провозглашенному Аменхотепом IV.[29] Возрождение традиционных национальных религий и там, и здесь было предопределено.
В Советском Союзе архетип, восходящий к древневосточным монархиям, реализовался почти полностью, потребовалось лишь сочетание условий, способствующих его реализации. Мы не знаем всех этих условий, раскрыть их способно лишь специальное исследование. Но одно из них, быть может важнейшее, нам ясно уже сейчас: это – менталитет народа.
В 2003 году в России, – в Сарове и Дивееве, – проходили торжества, посвященные 100-летию канонизации преподобного Серафима Саровского. Приехал в Саров и президент Путин. При жизни Серафим Саровский произнес немало пророчеств о грядущих судьбах России. Паломники, прибывшие на торжества, ожидали, что святой, как он обещал, воскреснет и укажет на будущего русского царя, скорее всего, на Путина.[30] С тех пор как Серафим Саровский произнес свое обещание, Россия пережила несколько национальных катастроф, – революций, войн, сталинскую диктатуру, – но менталитет народа не изменился. Он по-прежнему хочет иметь царя – подобно лягушкам в басне Крылова «Лягушки, просящие царя»:
Лягушкам стало неугодно
Правление народно…
Чтоб горю пособить,
Решили у богов царя они просить…
Что было дальше, должен знать каждый русский школьник. Сначала лягушки получили царя, которого они не боялись, и это им не понравилось. Тогда боги прислали им в болото журавля, который глотал лягушек как мух. С таким царем стало еще хуже:
Ни носа высунуть, ни квакнуть безопасно…
Сталин был прав – вспомним его слова, сказанные еще в 1926 году: «Русскому народу нужен царь». Постсоветское государство является – если еще не в реальности, то в народном сознании – теократическим, какими были Российская и Советская империи. Государство по-прежнему сакральная категория, а на верховной власти, в представлении очень многих, по-прежнему покоится – или, по крайней мере, должна покоиться – божественная благодать.
Я хотел бы напомнить, о чем говорилось в моем предыдущем, первом очерке: повторяющиеся в истории явления, порою крупные, судьбоносные, говорят о необходимости взглянуть на содержание и смысл исторического процесса по-новому, в ином, чем обычно принято, ракурсе. Помимо развития производительных сил и смены общественных формаций, помимо условного и произвольного деления истории на «древнюю», «средние века», «новое время» и тому подобное, в подходе к историческому процессу возможен еще иной критерий, принимающий во внимание тот факт, что в общественной жизни, духовной культуре, в коллективном сознании существуют сквозные явления, которые проходят через века и континенты. Реализация этих явлений несет печать своего времени и своей среды, в ней отражено сочетание особых социально-исторических условий и национальной специфики. Но в основе этих явлений находится нечто общее, что позволяет рассматривать каждое из них как выражение некоего общечеловеческого архетипа и располагать их как бы на одном историческом уровне. Они вечны подобно мифологическому Времени сновидений. О некоторых из этих явлений я писал в первом очерке, о других – в этом. В первом очерке – о явлениях в сфере религии, в этом – в национальном сознании, общественно-политической жизни и идеологии.
В марксистской историософии, с ее теорией общественных формаций, много верного, хотя она и не исчерпывает всего содержания исторического процесса и оставляет многое в нем непонятым, многие и важные его стороны не раскрытыми. В России, наряду с продолжающимися спекуляциями на тему марксистской философии истории, звучат уже совсем иные голоса. Это – отказ от свойственного марксистской историософии детерминизма, однолинейного эволюционизма и телеологизма, предполагающих, что все человечество движется в одном предопределенном направлении, это – проблема нелинейности, альтернативности исторического процесса. Марксистской историософии и социологии не хватало человека. Теперь мы читаем о том, что пришло время гуманизировать философию истории, «сделав акцент не на сдвигах в области производительных сил, а на сдвигах в сфере человеческого духа».[31] Мы читаем даже о том, что историю делают фанатичные носители религиозного или псевдорелигиозного сознания.[32] Нельзя не согласиться и с тем, что тоталитарные движения ХХ века были основаны на подчинении политики мифу.[33] Я говорил об этом в настоящем очерке. Мифологизация массового сознания, действительно, одно из характерных явлений новейшей истории, но значение тех или иных мифологем в коллективном сознании было велико и в другие эпохи, в самых разных социально-исторических условиях. В этом отношении человечество не меняется.
Говоря о сакральных истоках культуры, Бердяев писал: «Культура, в которой есть религиозная глубина, всегда стремится к воскресению». Величайшим образцом такой культуры он считал культуру Древнего Египта. «Она вся была основана на жажде вечности, жажде воскресения, вся была борьбой со смертью».[34] Эта характеристика относится и к любой архаической культуре, к духовной культуре любого традиционного общества охотников и собирателей. Духовная культура этих обществ концентрируется вокруг мифологемы Вечного настоящего, выраженной у аборигенов Австралии концепцией Времени сновидений. Эту концепцию можно рассматривать как одну из ведущих и в религиозных системах других традиционных обществ и даже в стадиально более поздних культурах; я писал об этом в первом очерке.
Слова Бердяева о стремлении культур, «в которых есть религиозная глубина», к воскресению, можно рассматривать и как иносказание – они стремятся воспроизводить себя на протяжении всей истории человечества.
Культуры традиционных обществ охотников и собирателей были, пользуясь термином Освальда Шпенглера, «первофеноменами» истории, исторически самыми ранними всплесками духовной энергии. В основе каждой такой культуры как целостности была заложена некая творческая идея, и совокупность этих идей, в том или ином сочетании, ощущается потом на протяжении всей человеческой истории.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] И.Курилов, Н.Михайлов. Тайны специального хранения. О чем рассказали секретные архивы 1930-1950-х годов. М., 1992, с.102-103; A.Knight. Who killed Kirov? The Kremlin’s Greatest Mystery. N.Y., 1999, p.159; A.Sinyavsky. Soviet Civilization. A Cultural History. N.Y., 1990, p.108.
[2] О.Шпенглер. Закат Европы, т.2. Всемирноисторические перспективы. Минск, 1999, с.245.
[3] И.А.Ильин. Собрание сочинений, т.2, кн.II. М., 1993, с.93.
[4] Там же, т.7. М., 1998, с.116-141 и 141-188.
[5] Н. Бердяев. Типы религиозной мысли в России. Paris, 1989, с.663.
[6] Н. Бердяев. Новое средневековье. Размышление о судьбе России и Европы. Берлин, 1924, с.34.
[7] Например: К.В.Чистов. Русские народные социально-утопические легенды XVII – XIX вв. М., 1967.
[8] V.Hammond. Letters from St Petersburg. Crows Nest, 2004, pp.160-161.
[9] А.Синявский. Сталин – герой и художник сталинской эпохи. – Осмыслить культ Сталина. М., 1989, с.124.
[10] Правда, 31 октября 1961, с.2.
[11] В.Роговин. Партия расстрелянных. М., 1997, с.264.
[12] Подробнее о советской науке этого времени: N.Krementsov. Stalinist Science. Princeton, 1997.
[13] E.Demaitre. Stalin and the era of “Rational Irrationality”. – Problems of Communism, 1967, vol.XVI, no.6, p.82.
[14] Р.Гвардини стремится показать, однако, принципиальное отличие Христа от мифологических Спасителей: Р.Гвардини. Спаситель в мифе, откровении и политике. Теолого-политические раздумья. – Культурология. Хрестоматия. М., 2000, с.307-340.
[15] Л.Гозман, А.Эткинд. Культ власти. Структура тоталитарного сознания. – Осмыслить культ Сталина, с.337-371.
[16] Цитирую по кн.: A.Sinyavsky. Soviet Civilization, p.10.
[17] W.Robertson-Smith. Lectures on the Religion of the Semites. Edinburgh, 1889, p.345.
[18] Подробнее: В.Кабо. Круг и крест. Размышления этнолога о первобытной духовности. Канберра, 2002.
[19] А.Жигулин. Черные камни. М., 1990.
[20] Новый мир, 1993, № 6, с.158.
[21] A.Applebaum. Gulag. A History of the Soviet Camps. L., 2003, pp.512, 514.
[22] L.Menand. The devil’s disciples. Can you force people to love freedom? – The New Yorker, July 28, 2003, p.85.
[23] Ф.Кафка. Процесс. Torino, s.a., с.9.
[24] О.Мандельштам. Слово и культура. М., 1987, с.85.
[25] И.Г.Франк-Каменецкий. Памятники египетской религии в Фиванский период. М., 1917-1918, т.II, с.5.
[26] Там же, т.I, с.18-19; т.II, с.7.
[27] Ср.: там же, т.I, с.50-58.
[28] Ср.: там же, т.II, с.10.
[29] Там же, т.I. с.45.
[30] Московские новости, 2003, № 30, с.22.
[31] Философия истории. Под ред. А.С.Панарина. М., 2001, с.48.
[32] Там же, с.76-77.
[33] Там же, с.73.
[34] Н.Бердяев. Философия неравенства. Берлин, 1923. Цит. по кн.: Культурология, с.49.
