

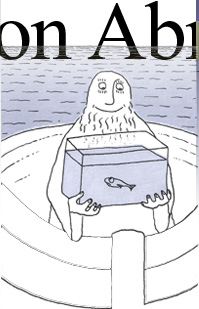
Беседа с Левоном
В беседе с Левоном Абрамяном участвовали Эльза-Баир Гучинова и Гаяне Шагоян.
Эльза-Баир: Почему тебя, физика, привлекла этнология?
Левон: Этот вопрос часто задают. Впервые мне его задали на экзамене при поступлении в аспирантуру. Я бы тоже задал такой вопрос. Я сказал, что Франц Боас был физиком, более того он защитил диссертацию по физике и Бронислав Малиновский был в свое время физиком. Так что в этом плане я не оригинален, у меня есть хорошие примеры. Хотя это была отговорка, ее оказалось достаточно. Тем более я подчеркнул, что они тоже были физики. Дает ли мне что-то мое физическое образование в этнологии? Я занялся физикой когда разгадывался генетический код, на этом пике пошел в молеклярную биофизику, мы читали самые передовые вещи, были на гребне тогдашних интересов, был такой общий подъем, вторая революция в науке. Когда в 60-е гг. физики стали шутить, тогда почему-то физикам показалось что они все могут. Раз они могут решать трудные уравнения и изучать сложные явления природы, то ни решили, что они самые умные, что они все могут: они и в литературе могут быть такими же смелыми, могут и поэзию писать и должны кино понимать. Такое недоразумение было, бум такой. И я попал в этот бум, но я был как раз из тех физиков которые не шутят, не пишут стихи. Наоборот мне действовали на нервы эти делитантские выходки физиков и особенно эта КВНская культура благодаря свой вседозволенности во всех областях. Я, получив физическое образование и два года проработав лектором и асистентом в качестве физика в Ереванском университете, оттуда во время удрал.
Но зато с благодарностью могу сказать, что физика и точные науки мне очень помогли. Я могу понять тех физиков, которые все шутили и писали стихи, потому что они почувствовали, что для них нет трудных текстов в широком семиотическом плане. Чем мне помог клан физиков? Для меня тоже не существовало нечитаемых текстов. При всей может быть такой нелогичности многих моих работ они все же имеют внутреннюю логику. В этом мое премущество перед многими коллегами, у которых я чувствую отсутствие прошлого из точных наук. Строгость точных наук не позволяет вольности. Получается, что у меня был уход от физики в совершенно иную сторону, но остался гарант прочности, строгости, логичности.
Эльза-Баир: Как обстояли тогда дела в армянской этнографии?
Левон: Тогда я ничего об этом не знал, а сейчас знаю. Дела обстояли так как они обстояли в армянской этнографии в 19 в. и даже еще хуже. Это я говорю не как упрек старшим коллегам, которых сейчас нет и которых я уважаю и люблю. Объективно этот момент существует, хотя бы потому что сегодня можно было бы иметь материал, который тогда был еще доступен. Но очень многое оказалось не собранным, не квалифицированным, осталось за бортом. То же самое обвинение сегодня мне бросят в лицо или в могилу следующее поколение. Потому что как мы ни стараемся, многое остается за бортом.
Эльза-Баир: Что тебя привлекло в этнографии?
Левон: Собственно я выбрал не этнографию тогда. Дело в том что я занимался теоретическими проблемами этнографии. Скажем в конце 2 курса на студенческой конференции будучи физиком я прочел доклад и провел семинар о пересмотре «Тотема и табу» Фрейда, который касался проблемы первого табу. Это то, чем занимается сегодня теоретическая культурантропология. Этот доклад лег в основу статьи, потом в виде главы она была исключена из моей первой книги местными марксистами, которые сочли мои взгляды биологизмом и антимарксизмом. Я хочу сказать, что я делал не то, что потом пересматривалось. Я делал то, что потом продолжал. Меня занимали начала культуры, начала человеческого общества, а не сугубо этнографические реалии того дня, в котором я жил.
Эльза-Баир: Когда ты понял, что станешь профессиональным этнологом?
Левон: Я могу точно сказать, когда я понял что хочу стать профессональным этнологом. Это было в 1972 г., когда я с друзьями специально поехал в Москву на выставку где эспонировалась «Дама с горностаем» из Краковского музея. Когда я летел туда, в самолете я неожиданно понял, что все проблемы, которые я пытаюсь возвести к началам человеческого общества – они все решаются этнографически, это этнографические реалии. Мне стало ясно, что все это можно изучать в рамках человеческой этологии или истории первобытного общества, точнее на уровне этнографии праздника. Это было как прозрение. Я вернулся, точно зная, по крайней мере то, что я не должен делать.
Эльза-Баир: А как тебя направили в аспирантуру ИЭА АН СССР?
Левон: У меня была возможность поехать в аспирантуру по психологии. Я тогда работал в институте усовершенствования врачей на кафедре философии, а на самом деле я был библиотекарем, это давало мне возможность много читать. Тогда же я начал писать свои «Беседы у дерева». Это было начало 70-х. Так и вышло: теоретическая этнография, история первобытного общества. А тема была по Австралии и Океании.
Эльза-Баир: Как твою тему восприняли в ИЭА? Ведь обычно целевые аспиранты занимались региональными проблемами, а в теоретические секторы брали из основной аспирантуры, тех, кто закончил кафедру этнографии в МГУ.
Левон: Да, ты права. История первобытного общества – это советская элитарная наука. Ею позволяли заниматься проверенным марксистам, также как молодого Маркса позволяли изучать только подкованным марксистам, так как молодой Маркс самый немарксистский. Видимо я произвел хорошее впечатление, и мой реферат понравился. Моим руководителем был Першиц Абрам Исакович. Назвать его руководителем в обычном смысле слова нельзя. Он ко мне относился очень доброжелательно, но с опаской. Больше всего он боялся, что я его подведу. А я и сам был часто близок к этому. Но не потому что хотел его подвести, я читал какие-то вещи, которые еще не читали. Многие авторы считались крамолой. Тогда только появился Леви-Стросс. Можно было бриколажным методом делать кое-что. Но у меня была хорошая поддержка в лице Сергея Арутюнова и Анатолия Хазанова. Гораздо позже я узнал, что во всех трудных случаях Першиц звонил к ним: вот он (Л.А.) такую вещь выкинул. И они отвечали, что это хорошо, это интересно и даже: так это и делается. Ну а то, что я сам понимал, что перегнул, я сам снимал. Я очень благодарен Першицу. Он был моей цензурой в хорошем смысле этого слова.
Об Арутюнове я обязательно должен сказать, потому он сыграл большую роль в моей жизни, начиная с того, что благодаря ему мой институт согласился направить меня в целевую аспирантуру. Это в других областях мне предлагали аспирантуры и хорошие должности. А здесь я сам должен был просить помощи. Я обратился к отцу своего друга Бабкену Николаевичу Аракеляну, директору Института археологии и этнографии. Тогда я рассказал ему кое-какие свои сокровенные идеи. Он поверил мне и сказал: я отправлю тебя к нашим специалистам. Меня представили ведущим этнографам. Они меня проэкзаменовали, и я произвел на них впечатление. У меня как-то получалось. В то время вышла брошюра одного местного философа, в которой упоминалась теория Сепира-Уорфа, оказалось я знаю эту работу в оригинале. Это их смутило. Таких моментов было несколько. Они ехали в Москву на конференцию и взяли в Москву меня познакомить со специалистами в ИЭА.
Но до этого был важный методологический спор, который, может, продолжается лет пятьдесят. Во-первых я дал им прочитать «Беседы», еще не в таком объеме как она вышла в 2005 г., но основные положения в них были уже сформулированы, и они дали высокую оценку. Это была Эмма Тиграновна Карапетян, наш «матриарх», человек с хорошим этнографическим чутьем и Дареник Суренович Вардумян. Его реакция была очень интересная. Она не касалось того, что я написал. Они поняли что не стоит туда углубляться. Не то, что это слишком хорошо и это непонятно для них, а что это другое и вполне научное. Я благодарен им, что они оценили, а не просто сказали: от ворот поворот. Они спросили меня мое кредо. Я сказал – вот в этом параграфе. Если я, этнолог, иду по дороге, и черная кошка мне ее перерезает, и я трижды поворачиваюсь через левое плечо, я должен выяснить что такое дорога, ее концы, что такое перерезать дорогу и почему поворачиваются, чтобы это перерезание пресечь. Он сказал: если ты этнограф, ты должен изучать почему кошка и почему в Армении. Я сказал, что это тоже нужно изучать, но та сторона проблемы мне ближе. А когда в Москве я познакомился с Арутюновым, это было у него дома, и мы этот спор воспроизвели и Арутюнов согласился со мной. С тех пор у меня появились авторитеты, которые до сих пор меня поддерживают.
Если говорить о том, кто был моим учителем, то таким учителем был Владимир Николаевич Топоров. Это я могу точно сказать. Когда я жил в Москве, я не мог себе позволить часто ходить к нему, так как он был человек занятой, но когда у меня что-то появлялось, что я мог ему показать, тогда я этот случай не упускал. «Беседы» у меня подновлялись всегда и как только у меня появлялись новые параграфы, я взял себе за правило показывать их ему. Когда он сказал, что ему не раз приходилось «туда» заглядывать, для меня не было высшей награды. И еще он спросил о содержании следующего параграфа, и после моего ответа он сказал: «Вот как интересно, сейчас я совсем в другой области работаю, но пришел к тому же, это о «жире», «пире» и «мире». Кстати, он удивительным образом мог угадать что мне нужно в именно данный момент. Скажем, мы о чем-то говорили, и он мог дать мне или посоветовать посмотреть такую-то книгу или статью, которая мне нужна была в данный момент. Например, сегодня мы все читаем Кейпера, уже по-русски перевели «Космогонию и зачатие». Когда я работал над близкими к этому сюжетами, он почувствовал и подарил экземпляр только что вышедшей его статьи... Наверное, стоит еще вот что сказать. У меня всегда было какое-то внутреннее задание: показать Топорову хоть что-то. Сегодня я этого лишен. В последний раз я рассказал ему о том, что мы с тобой, Гаяне, написали о «сверхструктуре». Когда я Топорову рассказал об этой идее, о сверхструктуре... Я в двух словах скажу в чем суть. Мы с Гаяне использовали известную схему Виктора Тэрнера: структура-антиструктура. Известная работа Тэрнера, эта работа была бестселлером долгие годы. Как раз в те годы, когда я еще учился в Москве. Сегодня она считается ретроградной, стараются о ней не говорить. Так вот, специально используя его терминологию, мы увидели промежуточную стадию, когда структура должна распасться в хаос, она создает кратковременно сверхструктуру, то есть она воспроизводит гиперструктуру, которая потом распадается. И мы попытались показать это на самых разных примерах. Наша структуралистическая терминология от того, что мы специально это сделали. Свой доклад в Беркли я назвал: «Виктор Тэрнер на советских парадах». Когда я рассказал наши идеи Топорову, он понял с первых слов. С первых слов оценил, и сказал, что это очень верно, явно мы правильно заметили. Потом он говорил, к сожалению, у меня не было магнитофона, чтобы его записать. У нас было всего полчаса, потом он должен был куда-то уходить. И все эти полчаса он говорил об этом. Возможно на не научном, а на экзистенциальном уровне, удивительные вещи, которые, я сейчас, никак не могу вспомнить, возможно оттого, что очень поглощенно все это слушал. Потом он спохватился, сказал: «Что же все я говорю, мне же надо было Вас послушать».
Я хочу рассказать еще об одном значимом для меня человеке, совершенно из другой области. Дело в том, что прежде чем пойти в этнографию, я до этого твердо решил поменять свою специальность и жизнь. Дело в том, что когда я ушел из физики, я хотел пойти в кино, стать кинорежиссером. Такая возможность у меня была, потому что как раз в 1974 г. зимой Параджанов должен был приехать снимать фильм «Чудо в Оденсе», который уже не могли бы не выпустить за рубеж. Дело в том, что фильмы Параджанова считались заведомо призовыми в советское время, но его самого не выпускали из Союза, потому что он делал скандальные вещи. Тогда он собирался снять фильм по заказу зарубежных продюссеров. Но решили, в любом случае, не допустить, чтобы он снял этот фильм и одно из объяснений, почему его посадили и тем самым устранили, думаю, был этот фильм тоже. Вообщем, именно тогда я решил пойти к нему в ассистенты, он меня бы принял. Параджанов хотел снимать «Сасунци Давит», а в «Сасунци Давит» тема язычества очень сильна, я понял, что многие вещи я обязан помочь ему сделать как человек, знающий этнографические подробности, которые он как раз не знал и многое снимал интуитивно. Делая это прекрасно, на уровне средневековой поэзии, он мог допустить оплошности. Зная его тяжелый характер, я решил перенести все невзгоды и пойти к нему в ассистенты, которые у него обычно не задерживались. Я ждал, когда он приедет, чтобы пойти из Института усовершествования врачей, где я работал к нему в ассистенты. Но подошла весть, что его арестовали, в конце 1974 г., и я пошел к отцу своего друга. И случилось то, что я уже рассказывал.
Гаяне: Левон, как ты участвовал в съемках фильма «Цвет граната»?
Левон: Я не снимался в главной роли, я снимался в разных эпизодах, был монахом, ходил среди баранов, отпевал католикоса, служил фоном. Меня должны были отпевать как католикоса, но когда об этом узнал утвержденный на эту роль заслуженный артист Грузии, тут же приехал и увидел, что я в его одежде стою... Параджанов так и не объяснил ему в чем дело, но меня оттуда «разжаловали» в простые монахи. И вместо того, чтобы меня отпевать, я стал отпевать этого актера.
- Гаяне: А как ты появился на съемочной площадке?
Левон: Mеня нашел его ассистент и повез. Кастинг был... Я был бородатый, тогда бородатых было не так уж много. Вот ассистент и повез толпу бородатых людей. Просто у меня оказалась черная борода... Это сейчас отпускают бороду кому не лень. И мне пришлось специально укоротить бороду, чтобы не принимали за бомжа. Потому что бомжи теперь тоже бородатые. А раньше бородатых людей было раз, два, и все. Один из них был я. Вот и попал на этот кастинг.
К тому же у меня было одухотверенное лицо. Это вы недооцениваете, а Параджанов оценил, он меня выделил и оставил. Параджанов решил, что если снимет молодого католикоса, это будет новое слово, но ему не дали это сделать, и поэтому он меня снял в разных эпизодах как монаха. Я пробыл там месяц, что тяжело отразилось на моей студенческой «карьере», я был тогда на третьем курсе.
Когда Параджанов чудом выжил и собирался снимать фильм об Ара Прекрасном и Давиде Сасунском, это была его большая мечта, тут я, имея определенные представления в области этнологии, уже мог быть его консультантом. В своих ассистентах он не был уверен, а во мне он был уверен и иногда спрашивал меня. Я вспомнил как впервые вместе с ним мы смотрели «Царя Эдипа». Тогда смотреть фильм было не то, что сейчас, это был подвиг. Тебя должны были допустить и прочее... В этом фильме был эпизод, где мертвым кладут в рот золото. Параджанов сказал: «Как это он здорово придумал!» А его ассистент, сейчас известный продюссер Александр Атанесян, сказал: «это же плата Харону». Человек читал... «Какую ерунду ты говоришь?!» - отреагировал Параджанов, но на всякий случай меня спросил. И когда я подтвердил, что это так, он умолк. Правда, в других случаях – наоборот. Вот, скажем, мне как-то стало интересно откуда к нему попал один очень редкий, скажем так, этнографический объект. Любой музей, захотел бы заполучить такой, это был предмет с зеркалами и покрывалом, очень красивый, подарок из Южной Америки, кажется, колумбиец подарил. Меня это заинтересовало, и я спросил: «А вы не спрашивали для чего он?» Это была буквально этнографическая вещь была, видимо, откуда-то с ярмарки купленная. Он так возмутился моему вопросу, стал неприличные вещи говорить. Его совершенно не интересовало назначение предмета, любую вещь он мог использовать в чем угодно.
Сегодня я возвращаюсь к теме Параджанова, кино, но уже как этнограф. И надеюсь снять антропологическое кино, используя опыт общения с Параджановым и опыт своего профессионального образования.
Гаяне: А когда появилось увлечение Индией?
Левон: Это появилось еще со школьных лет. Это постоянное увлечение, вернее, это параллельное увлечение духовным миром Индии, а не этнографическим. Это Упанишады, впервые изданные на русском языке, это индийская философия, это йога, которой занимались не так как сейчас, не в прикладных, а в духовных целях. Сегодняшнее поколение плохо себе представляет духовное состояние старшеклассника или студента моего времени, когда нет литературы, все интересное идет самоиздатом, дзенские памятники ты читаешь самоиздатовским переводом, а не покупаешь в магазине. И это все преследуется к тому же...
Эльза-Баир: Левон, как на твое формирование повлиял ИЭА и шире - годы, проведенные в Москве?
Левон: Я получал свое профессионально-духовное воспитание в других институтах. Мне много дали удивительные конференции, в которых я участвовал, в Институте славяноведения и балканистики, по духу мне они были гораздо ближе. Так что московская семиотическая школа и есть моя школа, а не наша институтская. Я скажу что мне дал институт. Институт дал мне, скорее, даже не взрослых, а очень значимых сверстников. Мы с Игорем Крупником организовывали молодежные конференции. Внешне мы были два контрастных человека: я – черный, бородатый, а он – лысый, безбородый. Как мне сказала одна знакомая из Сибири или из Хакассии, что мы вдвоем наводили «мифологический ужас». Но сегодня я могу без лишней скромности сказать, что наши молодежные конференции были интересней, чем наши взрослые институтские конференции, которые были гораздо более советские. Нам удавалось с Игорем дополнять друг друга. Скажем, идет доклад, кто-то читает, но я ничего интересно в нем не вижу, не могу развить идеи докладчика, по мне, доклад неудачный, но Игорь умудрялся развить его. А он говорил, что там, где он не видел ничего интересного, я что-то дополнял. И наши конференции превращались в самом деле в события. Люди того поколения, хорошо помнят их и мне не раз об этом говорили.
Эльза-Баир: Расскажи про твое сотрудничество с Назлояном и, вообще, про твои «шаманские практики». Ты и сейчас готов подписаться под каждым словом в «Антрополог как шаман» или видишь новые сюжеты?
Левон: Вообще-то «антрополог-шаман» не столько я придумал, сколько из контекста, вернее текста, вытащил редактор, но она правильно заметила. Когда народ был на площади, я неожиданно оказался в гуще первобытного праздника, который я пытался реконструировать в первой своей книге. Я понял, что неожиданно получаю возможность делать типологические сравнения: уйти в глубокие слои, куда уходит шаман во время камлания, или люди «уходят» во время праздника, чтобы увидеть что происходит в начале времен, вернуться и предсказать что будет дальше. В современном я увидел явление древнее. Только в таком, метафорическом смысле я называю антрополога шаманом.. Для меня это было мистическое прозрение, потому что один к одному совпадали все мои реконструкции, даже самому становилось страшно. Меня обвиняют, что я сегодняшнее и архаическое ставлю рядом и это неверно, что это вчерашний день. Хотя реконструировать мало кто любит, тем не менее, я этим владею. Эльза-Баир: можно сказать, что человек начинается с праздника, или он начинается раньше?
Левон: Я бы не сказал, что он начинается с праздника. Он «начинается» позже. Потому что многие праздничные моменты можно заметить и у животных или у дочеловека. Потому что праздник – это то, что мы получили, какое-то окно из «того» мира, и не всегда чувствуем это. Поэтому я даже не могу возражать своим критикам, потому что они говорят на другом языке. Скажем, есть разные времена, они соприкасаются. Есть разные состояния и окна между ними, позволяющие из одного состояния перейти в другое. Многие вещи неверно понимаются именно потому, что воспринимаются как либо механически перешедшее из природного, либо как культурное, человеком унаследованное. В данном случае не подумайте, что я говорю как суперпримордиалист. Праздник является одной из движущих сил... Он обрамляется, впитывается и каждый раз создается заново. Необходимость в нем есть, ты уже не придумываешь, а попадаешь в эту игру. Мой метод так напоминает шаманский, но он работает, если ты его, конечно, хорошо знаешь. Так, один раз я посоветовал Галине Старовойтовой не делать ставку на определенного политика, используя только знаковый метод. Как показали события, я оказался стопроцентно прав.
Гаяне: И часто Старовойтова обращалась после этого к твоим советам?
Левон: Нет. У нас были дружеские отношения, поскольку мы были и коллеги, и друзья, она очень часто у нас жила, когда приезжала сюда. Мы как раз во многом были оппоненты. По натуре она была революционером, причем революционером всесоюзного масштаба. А я предлагал совершенно другой, беспрецедентный путь для армянского движения, который условно назвал метод домино. Когда тебе нужна десятая фишка, но ты бьешь по первой, чтобы потом пришел в движение ряд, и ты, естественным образом, добираешься до десятой. Так, скажем, проблема геноцида, которая армянами переживается очень остро... Суть заключалась в следующем. Самый главный аргумент, который приводил Горбачев, когда объяснял, почему Карабах не может воссоединиться с Арменией, это 19 сходных с Карабахом проблем. Горбачев говорил об «эмоциях и разуме», эти его слова были использованы в одной очень громкой статье в «Правде». Считается, что людям, прошедшим геноцид, разрешается быть более истеричными, поэтому я предлагал «разумно использовать эмоции». Это был сознательный инструменталистский подход. Более того, ты не можешь это сделать, если не будешь знать структуру армянской идентичности.
Эльза-Баир: А как-бы ты охарактеризовал свой научный метод ?
Левон: Как сказать, у меня разные работы. Многие сюжеты «бесед» повторяются в виде научных статей. Иногда из статьи возникали «беседы». А некоторые работы настолько противоположны, что один мой критик хотел одного Абрамяна уберечь от другого. Он был за «Беседы», но против той статьи, которую мы написали с Гаяне. Он прав в том смысле, что они совершенно разные, одно и то же показано с разных сторон. Что сказать, если в беседах есть параграф – некий промежуток времени, это 1988 год, который совпадает с [национальным] движением. Человеку, привыкшему иметь дело просто с текстами, с этим невозможно смириться, его это раздражает. Я их не виню. Я сам провокационно это делаю. Поэтому Абрамяны совсем разные. Скажем так, один пытается толковать то, что происходит вокруг нас, я имею в виду этнографию в очень широком смысле этого слова, имеет дело с Мировым человеком, то есть, с человеком, который виден всюду, в любом обществе, и толковать его дела, обряды, слова, мысли и его мировоззрение. В «Беседах» как бы воссоздается то состояние, когда магия, религия, поэзия и наука были неразделимы. Но это делается с сегодняшним знанием того, что они уже разделены и безвозвратно. Были люди, которые совсем по-другому относились. Например, мой друг, Каро Чаликян, излечился от своей боязни зеркала, прочитав эту работу. Психиатор Гагик Назлоян говорил, что использовал эту и другие работы, статьи, связанные с двойником и зеркалом для лечения своих пациентов – психических больных, именно тех, у кого проблема с зеркалом или тех, которые утратили своего зеркального двойника. И как-бы мои идеи не были неверными, но так как они основаны на опыте человечества, то психиатрам типа Назлояна, который сам пользуется несколько «шаманистическим» методом, они помогают. А другой Абрамяна – это ученый, который должен в научных журналах публиковаться, меня интересует и такой жанр. Хотя там тоже, возможно, иногда я перегибаю палку. Как это случилось со статьей о Ленине как трикстере. По разным откликам я понял, что ее не совсем адекватно восприняли именно потому, что я так сделал, чтобы было «непонятно где шутка, где трюк, где наука, где вымысел». Вымысла там нет ни капли, это есть обращение с материалом, материалом необычным для людей, привыкших к традиционным текстам.
Эльза-Баир: Под традиционными текстами ты имеешь в виду советские клише?
Левон: Нет, не только советские клише. Это люди, которые сегодня, можно сказать, даже помешаны на западных клише. Вот что я скажу, мои тексты – другая антропология. Иногда это называют поэтической антропологией, скорее всего, это не так, я пока не знаю как сформулировать это… Это другая наука, или пусть даже ненаука, я не претендую на то, что наука должна быть такой. Но я могу точно сказать, что такие парадоксальные взгляды дают иногда больше чем подробные, скучные, социологические или антропологические тексты.
Эльза-Баир: Левон, у тебя есть ученики, скорее, ученицы. Ты ведь им даешь не только время, поддержку, делишься идеями, ты чувствуешь в себе миссию учителя?
Левон: По правде говоря, я плохой учитель. Как лектор я хороший, но как учитель плохой. Мне безразлично как студенты учат, придумывать что-то, чтобы они еще и учили, задавать что-то, чтобы они еще бы и читали, пополняли что-то, доходили... Нет. Но если человеку нужно что-то, я всегда готов обсудить и посоветовать...
Эльза-Баир: Я помню как ты давал книги студенткам, которые их потом не возвращали. Но я говорю об аспирантках...
Левон: Это техническая сторона, я говорю о том, что ты находишь людей, вернее, ты не находишь, а они находят тебя, когда им что-то нужно. Это «что-то» в книгах не прочтешь. То, что книги уходят и возвращаются или не возвращаются, это другое дело. Но зато ты можешь помочь в самом явном увидеть неявное. Вот если ты сможешь это передать, если это воспримется, вот тогда я считаю, что у меня есть ученики. Например, Гаяне я преподал только один урок, всего один. Я не знаю помнит ли она его или нет, но я показал ей из одной точки три памятника разных эпох. Они были видны только с этой точки и только в этот момент. Это были два камня, привезенные с Гегамских гор с наскальными рисунками, в университетском дворе. Оттуда же ты смотришь направо, на стене, - реплика средневекового церковного календаря, солнечного календаря. А если смотришь налево, то там можно было видеть политические графитти. Тогда был момент, когда ты видишь три слоя, которые одновременно присутствуют и одновременно твои. Вот если ты умеешь каждый раз увидеть в одном по крайней мере три или две, но, главное, не одну. Для меня весь смысл в этом. Я сравниваю свой метод с древнеиндийской поэзией отзвука. Когда поэзией считается только то, что имеет отзвук, имеет следующий смысл. Если много смыслов, то тогда это и есть настоящая поэзия. Быть может и не столь важно, чтобы она была написана поэтическим языком, рифмовалась или не рифмовалась, тем более, что в Индии рифмовали совсем по другой причине, для запоминания, некоторые математические труды также рифмовались. Вот такой же подход я пытаюсь применять здесь. Скучно изучать какие-то явления, но я понимаю, что их надо изучать. Тем более у нас теперь этнология современности, которая меня всегда занимала, - основное направление. Теперь я заведую отделом Этнологии современности, и я надеюсь, что мы уже начали работать и пытаемся уловить еще не полностью ставшие текстом состояния. Готовим работу для будущих историков мысли...
Эльза-Баир: Что для тебя этнология: наука или искусство?
Левон: Для меня это СПОСОБ ЖИЗНИ.
