

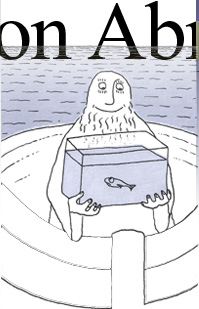
А.Григорян
ЛИДЕР, ГЕНИЙ, ПОЭТ
Из книги «Первый и второй человек»
Каково чувствовать себя первым? Не первым среди, а первым по счёту? Когда он ещё не открыт?
А. Битов. Гениальный школяр
значение первого
Заранее ясно, что значение первого, первичного в нашей жизни очень велико. Но мы всё-таки недостаточно четко представляем себе, насколько велико. Это каждый раз сотворение мира из хаоса, небытия. Потому-то всё первое, даже самое неудачное, дрянное, несёт в себе какой-то чуть ли не божественный заряд (из такого первичного сора и растут стихи). Это в полной мере относится и к первому человеку.
С первым человеком связаны величие, могущество (сила), слава, богатство, свобода, здоровье, красота, подвиг (великое дело), всеобщность (все люди, весь мир, весь народ).
Первое – предмет речи и мысли. Говорят и думают о главном. (Ср. героя – главное действующее лицо художественного произведения.) В широком смысле этим первым и главным является первый член триады «дело, слово, мысль», иначе говоря действительность, бытие.
Вопрос первенства, приоритета один из главных (приоритетных) вопросов для каждого человека и каждой группы людей.
Право владения той или иной территорией, главная причина всех войн на земле, тоже в конечном счёте основывается на простейшем принципе: «кто первым сюда пришёл». Это относится и к любой другой собственности: кто первый увидел, нашёл, взял, тот и владеет. Заняв место в транспорте, хотя бы на пять минут, мы уже ведём себя как его хозяева. Нашедший клад получает определённые права на него, правда сильно урезанные государством, которое всегда берёт на себя роль самого первого, главного человека (см. государство). Первый по важности всегда вытесняет первого по времени – но никогда не может вытеснить до конца.
И при определении виновного в конфликте ключевой вопрос всегда «кто первый начал»
двойственность первого человека
Он находится на границе бытия и небытия, порядка и хаоса, социума и природы и в равной мере причастен тому и другому. Второй человек в этом смысле более однозначен и элементарен, он целиком пребывает в пределах человеческого закона и порядка, и с его точки зрения первый человек беззаконен, дик, бесчеловечен. Парадокс: первый человек прост, но двойствен, второй раздвоен, но однозначен. Первый диалогичен (полифоничен), второй монологичен.
лидер
Психологический тип первого человека всем хорошо знаком и многократно описан. Это прирождённый, спонтанный лидер, ни минуты не сомневающийся в своём праве на лидерство, даже если по уровню подготовки и личным способностям он мало соответствует этой роли (типичный пример – Ельцин).
Далеко не все правители даже самого высокого ранга принадлежат к этому психологическому типу. Безудержное стремление к власти с использованием любых средств, постоянная потребность в подтверждении своего первенства и в восхвалениях со стороны окружающих говорят как раз о неуверенности в себе, характерной для второго человека. Таков был вероятно Сталин, всегда чувствовавший себя вторым (при Ленине, Троцком, Бухарине) и нуждавшийся в постоянном самоутверждении. Первому человеку власть словно сама идёт в руки, иногда неожиданно для него самого, второй её обычно завоёвывает силой, упорством или хитростью. Первый – первооткрыватель, второй – захватчик, узурпатор.
Ленин по психологическому типу был первый человек, лидер, а как интеллигент и революционер – второй, ставший затем всё-таки первым, главным. Революция вопреки Стебелькову сначала «второй человек», захватчик, и лишь потом, для последующих поколений «первый человек», новая точка отсчёта. См. Революция.
Ещё один пример второго человека у власти – Николай Второй (отметим как курьёз каламбурное совпадение порядковых числительных) с его типично интеллигентским характером, нерешительным, пассивным, слабым. Разительное несходство с поведением Сталина объясняется может быть тем, что у Николая (и, что ещё важнее, у его подданных) всё же не было сомнений в легитимности его власти, у него были сомнения в себе, в своём личном соответствии этой власти. То, что Николаю было дано по рождению (первенство по статусу), Сталину пришлось завоёвывать известно какими способами и какой ценой.
К роли лидера, вожака ср. К. Лоренц о стадном инстинкте рыб и об опыте на речных гольянах Э. фон Гольста:
Он удалил у одной-единственной рыбы этого вида передний мозг, отвечающий [...] за все реакции стайного объединения. Гольян без переднего мозга выглядит, ест и плавает, как нормальный; единственный отличающий его признак в поведении состоит в том, что ему безразлично, если никто из товарищей не следует за ним, когда он выплывает из стаи. Таким образом, у него отсутствует нерешительная «оглядка» нормальной рыбы, которая, даже если очень интенсивно плывёт в каком-либо направлении, уже с самых первых движений обращает внимание на товарищей по стае: плывут ли за ней и сколько их, плывущих следом. Гольяну без переднего мозга это было совершенно безразлично: если он видел корм или по какой-то другой причине хотел куда-то, он решительно плыл туда – и, представьте себе, вся стая плыла следом. Оперированное животное именно из-за своего дефекта стало несомненным лидером.
К. Лоренц. Так называемое зло, 8 (с. 161); перевод Г.Ф. Швейника
Лидером становится тот, у кого нет потребности в последователях, у кого отсутствует «нерешительная оглядка нормальной рыбы». Безоглядность – определяющий признак первого человека. У второго соответственно оглядка и производные от неё разной степени сложности: сожаление, раскаяние, угрызения совести, сознание (рефлексия). Запрет на оглядку в мифах и сказках сродни запрету на повторное действие (второй удар). И возвращаться дурная примета.
О собственных опытах с аквариумными рыбами пишет Борис Болотов:
«Что произойдёт в структуре стаи, если рассечь её пополам?» Биологи утверждают, что при делении стаи ничего нового обнаружить не удаётся. Просто появятся две новые стаи, ничем не отличающиеся друг от друга [...].
Когда эксперименты были проделаны, то оказалось, что двух стай не получилось. Образовалась всего одна стая, но с меньшим числом индивидуумов. Вторая же группа рыбок расплылась по углам аквариума и не пыталась собраться в стаю. [...] Вскоре я убедился, что у второй половины стаи наступила полная потеря ориентации в пространстве. [...] Так я делил стаю до тех пор, пока от стаи не осталась одна рыбка. Оставшаяся рыбка внешне ничем не отличалась от остальных, но она была явно необычной и выполняла роль руководящей в стае. [...] Я помещал рыбку-лидера в пробирку и опускал её вместе с пробиркой ко всем, собранным в садке. Все рыбки немедленно собирались вокруг пробирки подобно тому, как к магниту притягиваются железные опилки. [...]
Описанные опыты с аквариумными рыбками позволяют распространить понятие лидера на Природу вообще. Действительно, лидер присутствует практически везде: и в клеточных структурах, и на атомарном уровне. Принцип лидерства пронизывает природу от микромира до астрономических тел. Лидеры являются зародышами в кристаллах органической и неорганической химии.
Б. Болотов. Шаги к долголетию. СПб., 2001, с. 15–16, 19
один и все
Даже если один-единственный индивид приобретает какую-то важную для сохранения вида особенность или способность, она тотчас же становится общим достоянием всей популяции; именно это и обусловливает упомянутое ускорение исторического становления во много тысяч раз, вошедшее в мир вместе с понятийным мышлением. Процессы приспособления, требовавшие прежде целых геологических эпох, теперь могут происходить в течение нескольких поколений.
К. Лоренц. Так называемое зло, 13 (с. 223)
образец
Первый человек делает то, чему нет образца, примера, – беспримерное, кажущееся невозможным. Он именно создаёт образец, пример для подражания. Задаёт ориентир, направление (см. путь и место).
герой
Герой художественного произведения первый человек по определению («герой»). Произведение соответственно рассказ о первом человеке. Со временем меняется только понимание первого человека. В наивном искусстве это цари, вожди, святые, то есть великие люди. Появление в качестве героя простого, маленького человека отражает совершенно новый, инвертированный взгляд на первого человека. Точкой отсчёта становится не общество в лице мирового человека, а личность. Не всечеловек (сверхчеловек), а такой как все, как я. Немного иначе (в том что касается общества) у Мандельштама:
Если первоначально действующие лица романа были люди необыкновенные, герои, или уже [так в цитируемом издании] одарённые необычайными мыслями и чувствами, то на склоне европейского романа наблюдается обратное явление: героем романа становится обыкновенный человек, с обыкновенными чувствами и мыслями, и центр тяжести переносится на социальную мотивировку, то есть настоящим действующим лицом является уже общество, как, например, у Бальзака или у Золя.
О. Мандельштам. Конец романа / Соч. в двух т. М., 1990, т. 2, с. 202
Трагедия, гибель героя это превращение первого в последнего. Комедия состоит из двух частей: занятие мнимым героем (последним человеком, шутом) первого места и затем падение с него. Движение действия в трагедии можно обозначить так: , а в комедии так: . Значит, комедия сложнее и позднее трагедии, что подтверждается например историей греческого искусства. Смех производен от плача (см. смех и плач). Имея в виду неоднозначность фигуры дурака и приведённые выше пословицы о нём, можно сказать, что в трагедии страдает (гибнет) свой дурак, а в комедии чужой.
Кто-то (кажется Мария Розанова) сказал, что нет ничего смешнее трагедии. Это именно при взгляде на героя трагедии как на чужого дурака.
А в хорошей комедии (например в лучших фильмах Чаплина) чужой дурак превращается в своего. Но это превращение происходит через среднее звено – мирового человека.
первое и жертва
Трагедия связана с важным мотивом жертвы, о котором мы здесь только упомянем. О поэте как первожертве много писал В. Топоров.
[Поэт] – автор «основного» мифа и его герой-жертва [...], жертвующий (жрец) и жертвуемый (жертва) [...].
Т.Я. Елизаренкова, В.Н. Топоров. Древнеиндийская поэтика и её индоевропейские истоки / Литература и культура Древней и Средневековой Индии. М., 1979, с. 57
Ср. у Пушкина: «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон...».
Постоянно сопутствует ситуациям с концептом первый жертвование. Первину повсеместно жертвуют Богу, предкам, болезням, мифологическим и хтоническим персонажам.
М.М. Валенцова. Первый в славянской традиционной культуре / Признаковое пространство культуры. М., 2002, с. 200 сл.
Брик и Шкловский
Яркий пример второго человека и по психологическому типу и по статусу – Осип Брик. Он был вторым при Маяковском, Шкловском, при собственной жене. Ср. характеристику, данную В. Шкловским:
Отец Брика был очень богатый человек. Поэтому у Осипа всегда были деньги. Это ему мешало работать. А он был умный, очень знающий человек. Он был логический, невдохновенный. Мы называли его «губернатор захваченных территорий».
А. Чудаков. Спрашиваю Шкловского / Литературное обозрение, 1990, № 6, с. 102
Ум, знание, логичность второго человека противопоставляются вдохновению, таланту, интуиции первого человека. Значимо и упоминание о деньгах (см. богатство). Умный должен быть богат (недаром говорят: «Если ты такой умный, почему ты такой бедный?»). А талант – бессребреник1. Гений, умирающий в нищете, – расхожий жизненный и литературный сюжет. «Поэты, как известно, живут под забором», сказал как-то Бунин (см. Н. Берберова. Курсив мой, 5).
Набил оскомину тот факт, что Моцарт был похоронен в могиле для нищих. Так и любое известие о том, что тот или иной гений в области искусства умер в нищете, уже не удивляет нас – наоборот, кажется в порядке вещей. Рембрандт, Бетховен, Эдгар По, Верлен, Ван Гог, многие и многие.
Странно, гений тотчас же вступает в разлад с имущественной стороной жизни.
Олеша. Книга прощания, с. 406
Бескорыстие один из главных диагностических признаков первого человека, отличающих его от второго. К бескорыстию близка щедрость, широта души (ср. выражение щедрость таланта).
[...] искусство – дело щедрых. Стремление к полноте самоотдачи лежит в основе искусства. Чем талантливее человек, тем полнее самоотдача. Самый талантливый, то есть гений, осуществляет абсолютную полноту самоотдачи.
Ф. Искандер. Моцарт и Сальери / Ф. Искандер. Ласточкино гнездо. Проза . Поэзия. Публицистика. М., 1999, с. 386
______________________
1 Эта фраза каламбурна, учитывая происхождение слова талант. Первый человек богат, как бог, но богатство его меньше всего выражается в деньгах.
Первый человек бессребреник, а второй собственник в самом широком понимании, простирающемся до таких смыслов, связываемых с корнем соб-/себ-, как ‘эгоизм, себялюбие’, ‘особость’, ‘особенность’, «возвратность» (ср. собь, собить, грести под себя, тянуть одеяло на себя), вплоть до этимологически восстанавливаемых значений из мыслительной сферы (см. В.Н. Топоров. Ещё раз о др.-греч. σοφία: происхождение слова и его внутренний смысл / В.Н. Топоров. Святость и святые в русской духовной культуре, т. 1. М., 1995).
Сам Шкловский – яркий пример первого человека и прямая противоположность Брику, что видно из «ответной» характеристики, данной ему Бриком (в передаче Лидии Гинзбург):
Брик не приемлет историко-литературные работы Шкловского («Лёвшин и Чулков» и проч.). Брик говорит: «Когда-то Витя вступил в неизвестную страну теории литературы и стал давать вещам имена. Получалось очень сильно. Но по истории нельзя ходить как по новой земле. И вещи там не нуждаются в назывании, так как имеют библиографию».
Л. Гинзбург. Записи 1920–1930-х годов, 1932
«Вступил в неизвестную страну», «стал давать вещам имена», «ходить как по новой земле» – типичные характеристики первого человека.
Первым человеком представляет Шкловского и Б. Парамонов в статье с характерным названием «Моцарт в роли Сальери»:
Бурному романтическому гению – а таков и был Шкловский – предлагается корректная учёная карьера. [...] Это для человека его типа даже не то что мало, а как-то вообще ни к чему: не профессорской он складки был человек. Он, мятежный, искал бури, а не покоя. [...]
Проблема в том, что Шкловскому отнюдь не большевики помешали – а современность. Она не требует гениев, ей нужны узкие специалисты. [...]
Фигура литературного гения, обращённого нынешней культурой в спеца, останется выразительным символом нашей культурной эпохи. [...] Но эпоха виновата перед Виктором Шкловским больше, чем он перед самим собой: она заставила его алгеброй поверять гармонию, навязала этому Моцарту судьбу Сальери.
Б. Парамонов. Конец стиля, с. 29–30
(См. ниже об эпохе второго человека – От второго человека к третьему.) А вот мнение М.М. Бахтина:
– Я считаю Шкловского, – сказал М.М., – основателем всего европейского формализма и структурализма. Главная мысль была его. И вообще много, всегда много свежих мыслей. А уж когда нужно было исследовать дальше, это делали остальные. Впрочем, он и здесь много сделал.
А. Чудаков. Спрашиваю Шкловского, с. 101
В этой высокой оценке есть и определённая двусмысленность, как и у Парамонова: «основатель» (первый), но – формализма и структурализма («второе»), с которыми Бахтин вёл принципиальную полемику.
Здесь тоже мы располагаем «ответной» характеристикой, данной Шкловским Бахтину:
Очень любил [Шкловский] говорить об изобретателях и изобретениях. О том, что они всегда приходят со стороны. Перекидываясь, как всегда, на искусство, любил повторять, что Эйзенштейн и Пудовкин были инженеры. Высшая похвала в его устах выглядела так: «У М. Бахтина есть черты открывателя и изобретателя» («Тетива»).
Там же
Кстати инженер в советском обществе эволюционировал от первого человека ко второму, от изобретателя к «технической интеллигенции»1. У Шкловского он ещё первый.
Вторым человеком рисует Шкловского лингвист С.Б. Бернштейн:
Человек он умный и наблюдательный, но неприятный, злой. Любит вспоминать 20-е годы. […] В те годы этот маленький человек мечтал о большой славе. Думал, что в этом ему поможет громоподобный Маяковский. Но слава обошла его стороной: известен он только среди узкого круга интеллигентов.
С.Б. Бернштейн. Зигзаги памяти. Воспоминания. Дневниковые записи. М., 2002, с. 278
Отметим типичную роль человека свиты при Маяковском (ср. Олешу).
________________
1 Инженер – «специалист с высшим техническим образованием» (Ожегов).
«пришелец»
Важна мысль Шкловского о том, что изобретатели «всегда приходят со стороны». К Бахтину, одной из самых творческих личностей ХХ века, «первому из первых», это относится в высшей степени. Ср.:
Я слежу за поисками истоков, корней Бахтина, но остаюсь в убеждении: он не может быть выведен из каких бы то ни было событий ХХ века, из истории философии, эстетики и науки о литературе. Разумеется, он читал всё то, что издавалось вокруг него. Но он сам говорил на каком-то другом языке [...]. Гениален Розанов. Гениален Флоренский. Но они живут в одном с нами мире. Их язык – наш язык. А Бахтин – это тайна, и овеян он духом какой-то недостижимости [...]. Бахтин был при-шель-цем, и в пространстве его сознания сошлись разные времена: равноправно совмещались здесь античность и средневековье, реальность страстной недели и вчерашняя газетная новость. [...] Лишь сейчас мне становится ясно, что, служа Бахтину и общаясь с ним, я двадцать лет кряду видел перед собой человека «оттуда». [...] Бахтин знал о структуре мира и о Боге больше, чем все чернокнижники, сколько б их ни было на земле, и жил он в перманентном с Ним диалоге.
В. Турбин. Бахтин сегодня / Литературная газета, 1991, № 5
Так и у С. Бочарова общение с Бахтиным рождало «чувство, что нет ему среди нас собеседника» (С.Г. Бочаров. Сюжеты русской литературы. М., 1999, с.472).
[...] Бахтин [...] оставался просто чуждым ей [советской системе] как человек какого-то другого мира: в стране, где он родился и жил, он говорил словно на «иностранном» языке, сохранив почти в неприкосновенности свой родной язык.
Витторио Страда. Между романом и реальностью: история критической рефлексии / Бахтинский сборник, 5. М., 2004, с. 33
«Пришелец», человек «оттуда», овеянный тайной, всеведущий, «всевременный» и «вневременный», говорящий на каком-то другом языке, «перманентный» собеседник бога – всё это существенно для образа первого человека, стоящего на границе двух миров: нашего и «не нашего», земного и небесного, социального и природного, Космоса и Хаоса1. Потому и нет у него истоков и корней в этом мире, что он пришелец из мира иного. Отсюда и устойчивые мотивы сиротства, одиночества первочеловека, его непонятости и непризнанности.
Ср. образ падучей звезды, несущей свет из иных миров и гибнущей здесь, на Земле2. Сюда же современные светила науки, звёзды экрана и спорта. О них ещё будет сказано дальше.
____________________
1 Ср. суждение «фантомного» философа Я. Абрамова: «...перволичность всегда воспринимается как Кто-то за пределами мира, и эта запредельность образует главное её свойство для тех, кто в мире» (М. Эпштейн. Учение Якова Абрамова в изложении его учеников / Логос: Ленинградские международные чтения по философии культуры. Кн. 1. Л., 1991, с. 221).
О поэте как посреднике между двумя мирами см. Т.Я. Елизаренкова, В.Н. Топоров. Древнеиндийская поэтика и её индоевропейские истоки / Литература и культура Древней и Средневековой Индии. М., 1979, с. 42–43, 57; В.Н. Топоров. Об «эктропическом» пространстве поэзии (поэт и текст в их единстве) / От мифа к литературе. М., 1993; Н.П. Гринцер, П.А. Гринцер. Становление литературной теории в Древней Греции и Индии. М., 2000, с. 17сл., 28сл.
2 См. А. Григорян. Первочеловек и первослово (к истокам мифа о Прометее) / Знаки Балкан, ч. 1. М., 1994, с. 142–143.
О Г. Сковороде его друг и первый биограф Михаил Ковалинский:
Дух его отдалял его от всяких привязанностей и, делая его пришельцем, пресельником, странником, выделывал в нем сердце гражданина всемирного, который, не имея родства, стяжаний, угла, где главу приклонити, сторицею больше вкушает удовольствий природы, удовольствий простых, невинных, беззаботных, истинных, почерпаемых умом чистым и духом несмущенным в сокровищах вечного.
М.И. Ковалинский. Жизнь Григория Сковороды [1794] / Г. Сковорода. Вибрани твори в двох томах, т. 2. Київ, 1972, с. 197
Достоевский как «пришелец»:
Достоевский для меня был не близкий, какой-то не «городской», «пришлец», ранее невиданный, своеобразный – чужой! И я невольно болезненно побаивался его и прежде, и теперь я недоумевал – кого же он мне напоминает!?.. [...] Вот какие различные бывают впечатления: тогда как Ф.М. мне представлялся таинственным и жутким «пришлецом» и странником [...], и я страшился его, сестре моей, Веруше, он просто был неприятен и отталкивал её, напоминая «гнома», должно быть, под влиянием сказок и описанного случая с Марией Николаевной Бушен («Лаурой»).
А. Эйсснер. Из воспоминаний о Достоевском / Знамя, 1991, № 11, с. 166–168
Сальери о Моцарте:
Что пользы в нём? Как некий херувим,
Он несколько занёс нам песен райских,
Чтоб, возмутив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь!
Так улетай же! чем скорей, тем лучше.
Пришельцем и богом представляется любимый человек – первый для кого-то. Онегин и Ставрогин как пришельцы для Татьяны и Лизы соответственно:
Обе героини переживают самый момент явления героя – как богоявление – как он войдёт: «Ты чуть вошёл – я вмиг узнала...» – «Я все пять лет только и представляла себе, как он войдёт».
С.Г. Бочаров. Французский эпиграф к «Евгению Онегину». Онегин и Ставрогин / С.Г. Бочаров. Сюжеты русской литературы. М., 1999, с. 164
С при-шельцем соотносится от-шельник. Оба существуют на границе с иным миром. Но отшельник скорее не первый, а третий – бывший второй, уставший им быть, переросший самого себя. Отшельник стремится воскресить в себе первого человека, но не первого по важности, к чему стремятся все вторые люди, а исконно первого всечеловека.
гений и потустороннее
Нужно отметить зыбкость, перемещаемость границы между мирами и соответственно образа самого первого человека; первое и иное смыкаются и часто переходят друг в друга. Царь, гений – образцовые первые люди, но и образцовые иные.
Более, чем о ком-нибудь, можно сказать о гении, что центр и направление его лежат в «мирах иных» [...].
В.В. Розанов. Пушкин и Гоголь, 2
Он [Смоктуновский] был похож на гения. Светился, и как будто ещё кто-то был не то за ним, не то над ним.
Елена Шварц. Видимая сторона жизни / Звезда, 2000, № 7, с. 109
поэт и бог
Одно из органичных воплощений образа первочеловека это фигура поэта (в широком смысле), творца слова, соотносящегося с творцом мира (оппозиция «слово–дело»). Прямое уподобление поэта богу – постоянный мотив древней и новой поэзии. В «Одиссее» (1, 370–371) говорится о песнопевце, «который, | Слух наш пленяя, богам вдохновеньем высоким подобен»1. «Восстань, восстань и вспомни: сам ты бог!» – писал Баратынский, обращаясь к Мицкевичу («Не подражай: своеобразен гений...»). Поэт как бы растворяет миру уста, даёт ему возможность заговорить, высказать себя. Он тоже «пришелец» – посланник Первотворца, говорящий (пишущий) от его имени и под его диктовку. (И его дар это дар от бога /природы/, вдохновение – то что вдохнул в него творец.) Обратим внимание на сочетание пришёл поэт в следующих отрывках:
Я раньше думал – | книги делаются так: | пришёл поэт, легко разжал уста, | и сразу запел вдохновенный простак – | пожалуйста! | А оказывается – | прежде чем начнёт петься, | долго ходят, размозолев от брожения, | и тихо барахтается в тине сердца | глупая вобла воображения. | Пока выкипячивают, рифмами пиликая, | из любвей и соловьёв какое-то варево, | улица корчится безъязыкая – | ей нечем кричать и разговаривать.
В. Маяковский. Облако в штанах, 2
Потом заговорил Мандельштам. Говорит он шепеляво, запинается и после двух-трёх коротких фраз мычит. Это было необыкновенно хорошо; это было «высокое косноязычие»2 – и говорил вдохновенный поэт. [...] Простые смертные не должны высказывать такое. [...] Прекрасно смотреть на спотыкающуюся мысль поэта, на её рождение, на мыслительный процесс, знакомый по стихам. Это было похоже. Это воспринималось так: вот пришёл поэт, ему показали стихи другого поэта; он отверз уста – и возникла мысль... Вот ему показали ещё стихи или дерево, дом, стол – и родятся ещё бесчисленные мысли. [...]
Главное же – ощущение большого поэта. В первый раз я со страшной остротой испытала это ощущение, когда слышала, как Блок читает свои стихи. Это было в небольшой аудитории, в 21-м году, за несколько месяцев до его смерти. Блок читал «Возмездие» глухим и ровным голосом, как бы не видя и не чувствуя слушающих.
Л. Гинзбург. Литература в поисках реальности. Л., 1987, с. 150–151
(«Как бы не видя и не чувствуя слушающих» – отрешённость поэта, человека не от мира сего.) О Мандельштаме же Цветаева: «отрок лукавый, певец захожий» – все четыре слова значимы. У самого Мандельштама («Буря и натиск»): «Тогда приходит поэт, воскрешающий девственную силу логического строя предложения». Ср. название книги Б. Ахмадулиной «Пришла и говорю» (по первым словам стихотворения «Взойти на сцену», на которое А. Пугачёва написала песню, вошедшую в фильм 1985 года с таким же названием: «Пришла и говорю»). Заметим, что приходит, нисходит, является, слетает говорится и о музе, вдохновении, поэзии, ведь поэт это воплощённая поэзия. И мысль (идея) тоже приходит в голову. За этими и подобными примерами можно усмотреть древнее «прототипическое» сочетание приходить (прилетать) + (первое) слово.
Приход (в мир) это ещё и рождение. Соответственно уход – смерть.
_________________
1 Об этом стихе в не совсем точном переводе Жуковского и о самой идее уподобления поэта богу см. Н.П. Гринцер, П.А. Гринцер. Становление литературной теории в Древней Греции и Индии. М., 2000, с. 28сл.
2 Ср.: «Высокое косноязычье | Тебе даруется, поэт» (Гумилёв).
Бахтин о Блоке:
Сразу чувствовалось как-то, что человек необычный и, так сказать, сделан не из того теста, из которого мы, грешные, сделаны. В нём чувствовалась какая-то возвышенность и... ну, что он – как сказать – приподнят, так сказать, над всем этим... [...] Он приподнят был даже над самим собой. [...] И вообще это сразу чувствовалось: вот человек – и вот над ним есть что-то такое очень высокое...
[...] Мы все сделаны из теста совсем не блоковского. А Блок – это исключение. И вот просто когда он выходил – наружность его, чтение стихов, которое с точки зрения декламации было слабым, декламации не было, – но во всём этом чувствовалось что-то особое, нездешнее, так сказать. [...] Одним словом, мы все маленькие люди, а это вот человек совсем другой – большой, [...] обладающий другим совсем голосом, чем мы. Могущий произносить те же слова, что мы их произносим, но они у него будут звучать совсем по-другому и значить по-другому.
М.М. Бахтин: беседы с В.Д. Дувакиным. М., 2002, с. 104–105, 189–190
«Он приподнят был даже над самим собой» – к двойственности первого человека, который наполовину здесь, в этом мире, наполовину «там». Ср. Каверин о Пастернаке:
Он всегда был с головой в жизни, захватившей его в этот день или в эту минуту, и одновременно – над нею, и в этом «над» чувствовал себя свободно, привольно.
В. Каверин. Литератор. М., 1988, с. 185
Блок на протяжении всего своего поэтического пути не развивался, а разрывался.
О Блоке можно сказать, что он от одного себя старался уйти к другому себе. От одного, который его мучил, к другому, который мучил его ещё больше. Характерная особенность Блока в том, что он всё надеялся уйти от самого себя.
Цветаева. Поэты с историей и поэты без истории / Собр. соч. в семи т., т. 5, М., с. 409; перевод с сербскохорватского О. Кутасовой
Интересно сопоставить с этим слова пушкинского Сальери: «Ты, Моцарт, недостоин сам себя. [...] Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь; | Я знаю, я».
Удивительно не то, что он умер, а то, что он жил. Мало земных примет, мало платья. Он как-то сразу стал ликом, заживо-посмертным (в нашей любви). [...] Смерть Блока я чувствую как вознесение.
Цветаева. Из записных книжек и тетрадей / Собр. соч. в семи т., т. 4, 1994, с. 592
Ср. строки Ахматовой (Поэма без героя, 1.2), тоже относящиеся к Блоку:
Плоть, почти что ставшая духом, [...]
Всё – таинственно в пришлеце.
Цветаева о Пастернаке:
Впечатление, что всегда что-то слушает, непрерывность внимания и – вдруг – прорыв в слово, чаще всего довремéнное какое-то: точно утёс заговорил, или дуб. Слово (в беседе) как прерывание исконных немот. Да не только в беседе, то же и с гораздо большим правом опыта могу утвердить и о стихе. [...] Наших слов он ещё не знает: что-то островитянски-ребячески-перворайски невразумительное – и опрокидывающее. В три года это привычно и называется: ребёнок, в двадцать три года это непривычно и называется: поэт. [...] Не Пастернак – младенец, это мир в нём младенец. Самого Пастернака я бы скорей отнесла к самым первым дням творения: первых рек, первых зорь, первых гроз. Он создан до Адама.
Цветаева. Световой ливень
Ср. о нём же Ахматова: «Он награждён каким-то вечным детством».
Андрей Сергеев о Пушкине и Пастернаке: «Без первого у нас ничего бы не было, а второй был пришедшим неизвестно откуда и писавшим неизвестно как» (НЛО, № 34, 1998, с. 233). Небожителем по легенде назвал Пастернака Сталин. Ср. название статьи Б. Парамонова о Бродском: «Разговоры с небожителем».
Ахматова как первый человек
Поразительно сказал о ней Бродский:
И Ахматова уже одним только тоном голоса или поворотом головы превращала вас в гомо сапиенс. [...] В разговорах с ней, просто в питье с ней чая или, скажем, водки ты быстрее становился христианином – человеком в христианском смысле этого слова, – нежели читая соответствующие тексты или ходя в церковь. Роль поэта в обществе сводится в немалой степени именно к этому.
На всех нас, как некий душевный загар, что ли, лежит отсвет этого сердца, этого ума, этой нравственной силы и этой необычайной щедрости, от неё исходивших. [...] Мы шли к ней потому, что она наши души приводила в движение, потому что в её присутствии ты как бы отказывался от себя, от того душевного, духовного – да не знаю уж, как это называется, – уровня, на котором находился, – от «языка», которым ты говорил с действительностью, в пользу «языка», которым пользовалась она. [...] она стала частью нас, частью наших душ, если угодно. Я бы ещё прибавил, что, не слишком-то веря в существование того света и вечной жизни, я тем не менее часто оказываюсь во власти ощущения, будто она следит откуда-то извне за нами, наблюдает как бы свыше, как это она и делала при жизни... Не столько наблюдает, сколько хранит.
С. Волков. Диалоги с Иосифом Бродским, 10
Эти слова способны примирить и с Ахматовой и с Бродским (чьи безмерно раздуваемые репутации вызывают невольное внутреннее сопротивление).
У Ахматовой были и явственные черты второго человека. См. например в статье А. Жолковского «Анна Ахматова – пятьдесят лет спустя» / Звезда, 1997, № 8: «репрессивная властность», «тоталитаризм», устрашающее воздействие на окружающих, манипулирование людьми, их памятью, консерватизм, доходящий до реакционности, твёрдость («железность»), нарциссизм (любовь к зеркалам, поза), амбивалентное гоголевско-опискинское желание памятника, ревность к чужой славе, вообще ревнивость, капризность, ипохондрия. См. ещё высказывание Н. Пунина (вина).
Хорошая память (злопамятность и мстительность) отличает второго человека (ср. Сталина, ту же Ахматову в её «тоталитарной» ипостаси), что естественно, поскольку ему принадлежит вся ментальная сфера. Первый человек переменчив, отходчив и бездумен, он обращён к будущему (пророческий дар), а второй к прошлому (память).
загадка первого человека
Неотмирностью первого человека объясняется его загадочность, таинственность. Практически о каждом великом человеке можно написать исследование под названием «Загадка Х». И таких исследований множество («Загадка Шекспира», «Загадочный Гоголь», «Странный Тургенев» и сотни более частных «загадок»: «Загадка НФИ», «Тайна последней дуэли» и т. д.).
Пушкин [...] бесспорно унёс с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем.
Этими словами Достоевский закончил свою речь о Пушкине 1880 года.
«Загадка первого человека» находится на пересечении двух ещё более обширных тем: «загадка первого» и «загадка человека»1.
Витгенштейновское «Загадки не существует» (Логико-философский трактат, 6.5) прямо и намеренно противоречит очевидности. Второму человеку непонятно в первом человеке многое (включая самое главное), и он предпочитает объявить это непонятное несуществующим, или ненужным, или неправильным (ср. М. Гаспаров о Бахтине – Риторика).
__________________
1 Ср.: «Ведь и сам человек – это загадка, и в основе человечности всегда лежит преклонение перед этой загадкой» (Т. Манн. Введение к «Волшебной горе». Доклад для студентов Принстонского университета; перевод Ю. Афонькина).
Загадочно всё простое, не поддающееся анализу, логическому объяснению (то есть для второго человека) и в то же время исполненное смысла. Загадка некоторым образом и есть глубина смысла, которую невозможно исчерпать одним взглядом и одним словом.
Загадка как жанр (и пред-жанр) тоже соотносится с первым человеком в разных его проявлениях: Иван-дурак и Иван-царевич в сказках разгадывают и сами загадывают загадки. Большую роль играют загадки в освоении мира ребёнком, в дошкольном и школьном обучении. Задания, выполняемые сказочными героями, школьные задачи и упражнения – те же загадки, прообраз которых в той изначальной ситуации неясности, в какой оказывается первый человек.
косноязычие
Нас не должно удивлять, что поэт – мастер слова – косноязычен. Первое слово, как и всё первое, трудно (Сальери: «Труден первый шаг»)1. Это именно прорыв («прерывание исконных немот»), имеющий много общего с актом рождения. «Высокому косноязычью» первочеловека противостоит гладкая, «накатанная», но вторичная речь второго человека, который не рождает новое слово, а использует уже имеющееся как потребитель. Слова для него не родные, а пасынки.
Ср. В. Топоров о «перво-речи»:
Основные психофизические характеристики такого говорения – присутствие особого волнения, возбуждения, «дрожания» речи, её прерывистость, неупорядоченность, наконец, сама манера произнесения, с отмеченными силой голоса, тембром, скоростью речи, иногда с подражанием другим голосам и т. п. Формы такой речи нередко довольно непосредственно связываются с болезнями, называемыми эмирячение и мэнэрийии, присущими именно шаманам или в период обретения ими шаманского дара, или во время камлания.
В.Н. Топоров. Из наблюдений над загадкой / В.Н. Топоров. Исследования по этимологии и семантике, т. 1. М., 2004, с. 679
Косноязычие Андрея Белого
Белый – Б. Томашевскому: «Я давно осознал тему свою; эта тема – косноязычие, постоянно преодолеваемое искусственно себе сфабрикованным языком». Если воспользоваться типологией глоссолалий, предложенной Э. Ломбаром [...], то «косноязычие» Белого можно сблизить с глоссолалией как псевдоязыком: говорящий на нём экстатик искажает реальные слова [...]. Пастернаковские же приступы «косноязычия» напоминают скорее то, что Ломбар определял как fonations frustes – предварительную стадию транса, дословесную глоссолалию: нечленораздельные звуки, рыдание, свист, подражание речи животных.
М. Безродный. Конец цитаты. СПб., 1996, с. 150–151
Свой путь А. Белый осмыслял как поиски языка, как борьбу с творческой и лично-биографической немотой. Однако эта немота осмыслялась им и как проклятье, и как патент на роль пророка. [...]
Андрей Белый отводил себе роль пророка, но роль истолкователя он предназначал тоже себе. Как пророк нового искусства он должен был создавать поэтический язык высокого косноязычия, как истолкователь слов пророка – язык научных терминов – метаязык, переводящий речь косноязычного пророчества на язык подсчётов, схем, стиховедческой статистики и стилистических диаграмм.
Ю.М. Лотман. Поэтическое косноязычие Андрея Белого / Андрей Белый: Проблемы творчества. М., 1988, с.437–444
В. Катаев о Пастернаке («Алмазный мой венец»):
[...] читал, мыча в нос и перемежая густыми низкоголосыми междометиями полуглухонемого, как бы поминутно теряющего дар речи.
Ср. частично приведённые выше слова Цветаевой о нём же (очерк «Световой ливень»):
[...] какие-то бормотá, точно медведь просыпается [...] точно утёс заговорил, или дуб. Слово [...] как прерывание исконных немот.
См ещё первое слово ребёнка.
__________________
1 «Только первый шаг труден» – приписывается маркизе Дюдефан (18 в.), см. Н.С. Ашукин, М.Г. Ашукина. Крылатые слова, Т29. Но скорее всего маркиза сама использовала имевшееся пословичное выражение, ср. Жигулёв, с. 164.
В.: Скорее Жигулёв списал у Дюдефан (из Ашукина), т. е. выдал изречение за пословицу.
эпигоны
[Вяч. Иванов:] эпигонство [...] само не творит, а только исследует, углубляет творцов. Эпигоны, может быть, и тоньше, но слабее протогонов, ибо богатство и утончённость не идут обычно рука об руку.
М.С. Альтман. Разговоры с Вячеславом Ивановым. СПб., 1995, с. 104
Имитатор всегда выглядит мастеровитей мастера. Мастер пашет, а имитатор пахать не может, он тяпкой мотыжит вспаханное другим. А дураки ахают: как хорошо обработано поле!
Ф. Искандер. Ласточкино гнездо / Новый мир, 1994, № 1, с. 124
См. Риторика. Отметим пару «богатство и утончённость» – по Иванову богат первый человек (протогон), утончён второй (эпигон). Богатство здесь приравнено к силе и имеет мало общего с денежным богатством Брика. См. богатство.
«исписался»
Иногда первый человек становится своим собственным эпигоном, повторяет самого себя. О таких говорят: исписался. Это обычно для преклонного возраста, но встречается и в молодом.
тонкость, утончённость
К мыслям Вяч. Иванова о тонкости и утончённости ср.:
[...] тонкость редко соединяется с гением, обыкновенно простодушным, и с великим характером, обыкновенно откровенным.
Пушкин. Отрывки из писем, мысли и замечания
В письме к П. Вяземскому (конец 1823 г.) Пушкин писал:
[...] я желал бы оставить русскому языку некоторую библейскую похабность. Я не люблю видеть в первобытном нашем языке следы европейского жеманства и французской утончённости. Грубость и простота более ему пристали.
И с народом тонкость редко соединяется.
Писатель, даже тот, что «не про народ», существо очень народное. Этим народным чувством и производится тот тайный отбор, где критерием отнюдь не является понятность, доступность или популярность. Писатель-то как раз, даже самый разутончённый, прежде всего не интеллигент, если он настоящий писатель, конечно.
Битов. Пушкинский дом. Приложение ко второй части: «Профессия героя»
Зато она в высокой степени свойственна науке:
Стиховедение не учит, «как делать стихи», оно объясняет, «как сделаны стихи», причём в таких тонкостях, в которых обычно сами поэты не отдают себе отчёта.
Михаил Гаспаров: «Поэт – это конкистадор, а стиховед – колонист» / Книжное обозрение, 1999, № 5
Немного иначе у Честертона:
Да, мысли (ideas) толпы – очень тонкие мысли; но толпа не выражает их тонко. По сути дела она не выражает их никак, если не считать случаев (теперь правда слишком редких), когда она учиняет мятежи и погромы.
Вот этим и объясняется иначе не понятное существование Поэтов. Поэты те, кто разделяет расхожие представления, но умеет выражать их как нечто необычное и утончённое, чем они и в самом деле являются. Поэты обнаруживают стыдливую утончённость черни.
G.K. Chesterton. The Three Kinds of Men, p. 148–149
Второе тоньше, слабее, мельче, но сложнее, хитрее первого. Утончён, облегчён знак, признак по сравнению с грубо материальной вещью. Утончённы слово в сравнении с делом и мысль в сравнении со словом, душа в сравнении с телом.
мастер
Мастер по происхождению (из magister) – «большой человек», то есть первый, старший, главный. Искусство, синоним мастерства, бывает и синонимом творчества, артистизма, уже отсылающих к первому человеку. Но черты второго человека у мастера обычно перевешивают. Он стоит в одном ряду с ремесленником (каковым себя считает Сальери), профессионалом, специалистом. Кроме того с ним устойчиво связываются мотивы наставничества, учительства, ср. пару мастер–подмастерье, магистр как учёную степень. Да и этимологически магистр связано не c превосходной (maxime), а со сравнительной (magis) степенью от magnus. Булгаковский Мастер с одной стороны противостоит армии непрофессионалов, ворвавшихся в литературу после революции, а с другой стороны громкому, но и в чём-то сомнительному званию писателя (и поэта – в лице например Ивана Бездомного), воспринимаемому именно как претензия на первое место. Звание мастера в таком понимании сочетает в себе чувство собственного достоинства и скромность, знание своего второго (непервого) места. Есть в нём конечно и память о магистрах прежних времён, от древнеримских до средневековых. Ещё одним важным признаком отличается мастер от писателя: он занимается делом, а не словом («болтовнёй», «писаниной»).
Как должен относиться к своему делу Сальери? В полном согласии со своим мировоззрением здесь должен царить культ мастерства. Сальери всего мира этот культ проповедуют до сих пор. […]
Почему же Моцарт ничего не говорит о своём мастерстве? А вместе с ним и Пушкин? Да потому, что того мастерства, о котором мечтает Сальери, для Моцарта не существует.
Ремесленная часть искусства, безусловно, есть, но она для настоящего художника слишком элементарна, чтобы о ней говорить.
Ф. Искандер. Моцарт и Сальери / Ф. Искандер. Ласточкино гнездо. Проза . Поэзия. Публицистика. М., 1999, с. 387
Дальше Искандер говорит об истинном мастерстве, которое он определяет как «умение заставить работать разум на уровне интуиции»: интуиция и разум как «первый и второй человек».
магистр и министр
Латинский перевод [...] противопоставляет или, вернее, заставляет взаимно прояснять друг друга два термина: magister – minister, господин (учитель) – служитель. В наших языках эта их отчётливая полярность утрачена. Magis и minus значит больше и меньше. Быть magister, осуществлять власть магистрата, значит быть больше по сравнению с тем, в отношении кого она осуществляется. Напротив, ministerium – это подчинение, служебное состояние. Министр Бога есть Его служитель. В греческом ему соответствует διάκονος от διακονέω, стараться, усердствовать.
Ф. Федье. Власть / Ф. Везен. Философия французская и философия немецкая; Ф. Федье. Воображаемое. Власть. М., 2002, с.117–8; перевод В.В. Бибихина
Преимущества мастерства, профессионализма очевидны, но есть у них и недостатки: узость, ограниченность, определённая принудительность. Образы, которые связываются со специализацией, – всё более сужающаяся дорожка, всё более трудное восхождение на вершину или углубление в суть (вгрызание в гранит науки). Но высшее мастерство переходит в артистизм, игру, полёт, второй человек в таких редких случаях становится первым.
О министре см. ещё второй ® средний, третий.
творчество и искусство
Для нас творчество и искусство близкие синонимы, но в древности они скорее противопоставлялись. Творчество связывалось со вдохновением, гением, божьим даром, а искусство с трудом, старанием, мастерством, умением, умом. Одним словом, творчество дело первого человека, а искусство – второго.
Деларю слишком гладко, слишком правильно, слишком чопорно пишет для молодого лицеиста. В нём не вижу я ни капли творчества, а много искусства. Это второй том Подолинского.
Пушкин. Письмо к П.А. Плетнёву ок. 14 апреля 1831
Искусство – во власти индивидуума, к творчеству способен только коллектив.
Горький. Разрушение личности (1909)
Что такое творчество? Весёлая готовность переступить через всё, отречение от всего данного, прочного, успокоительного; гордый отказ остановиться, замедлить, забыться в сладостном благополучии.
Н. Бахтин. Антиномия культуры, 2
«Данное», «прочное», «успокоительное», «остановка», «замедление», «сладостное благополучие» – всё ко второму человеку.
Мастерство против поэзии:
Говорить о «мастерстве» Ходасевича бессмысленно и даже кощунственно по отношению к поэзии вообще, к его стихам в резкой частности [...].
В. Набоков. О Ходасевиче
Сюда же – к искусству-мастерству – и художественность (художник родственно гот. *handags ‘ловкий’ : handus ‘рука’ – Фасмер, 4, 282):
Пушкин выработал – именно так – эффектную концовку и сообщил тем самым своей летучей заметке окончательную художественность.
С.Г. Бочаров. О возможном сюжете: «Евгений Онегин»: P.S. Возможные сюжеты Пушкина / С.Г. Бочаров. Сюжеты русской литературы. М., 1999, с. 47
Как примирить сбивчивую речь второго человека с его гладкописью? Гладка и правильна именно вторичная, предварительно продуманная или записанная речь (ср. говорит как пишет, то есть как будто читает по писаному). В такой речи всегда есть некоторая искусственность, неорганичность. Нам предлагается более или менее искусно смонтированный беловик, за которым стоит возможно не одно поколение черновиков. (Перебеливание черновиков, монтаж, вообще искусство как сокрытие первого, тайнопись.) А когда второй человек пытается говорить без подготовки, тогда-то он начинает запинаться. См. риторика и косноязычие.
В определённом смысле родом косноязычия можно считать и мысль – внутреннюю речь с наложенными на неё специфическими ограничениями.
В.: Что за ограничения?
– «Немота», неартикулированность, отсутствие внешнего адресата.
Лермонтов и Некрасов как вторые люди
В правильных стихах Лермонтова очень заметна искусственность, неорганичность формы самовыражения. Более того – кажется, что форма Лермонтову безразлична. Вернее, он пользуется той, которая уже есть, которая уже освоена. Словно вместе с правилами грамматики усвоены и законы стихотворства.
В результате возникает впечатление, что мыслит один, а пишет – другой.
Твёрдо зная, что новую строку надо начинать с прописной буквы, а перед «что» ставить запятую, Лермонтов точно так же знает – какими словами следует описывать закат, какие выражения приличествуют любви, каких эпитетов требуют печаль, гнев, восторг. Любая свежая мысль, любая оригинальная эмоция – тонут в потоке бесчисленных штампов, разбросанных по лермонтовским правильным стихам.
П. Вайль, А. Генис. Родная речь, гл. «Восхождение к прозе. Лермонтов»
«Мыслит один, а пишет – другой» – характерная раздвоенность второго человека.
[Некрасов] задался целью спасти литературу от железной хватки Пушкина, вывести поэзию из умертвляющего обаяния пушкинского совершенства.
Сама мысль бороться с Пушкиным на его территории поражает своей смелостью. [...]
Помня о том, на кого он восстал, Некрасов как бы воплотил в жизни конфликт Евгения с Медным всадником. Все его гражданские стихи – это пылкое «ужо тебе!», обращённое к Пушкину. Поэтому у Некрасова всегда есть незримый персонаж, эстетическая тень, на которую он нападает и от которой защищается. Его гражданская лирика диалогична по самой своей природе. Она невозможна без слушателя, без читателя, без врага.
Полемичность Некрасова – от авторской неуверенности. Он всегда сомневался в правильности выбранного им пути. Призрак поэтического несовершенства преследовал Некрасова до самых «последних песен».
Там же, гл. «Любовный треугольник. Некрасов»
«Спасти литературу от железной хватки Пушкина», «умертвляющее обаяние пушкинского совершенства» – казалось бы здесь скорее Пушкин второй, но вспомним, что и Сальери хотел спасти музыку от Моцарта («я избран, чтоб его | Остановить – не то мы все погибли, | Мы все, жрецы, служители музыки [...]»).
Полемичность – к состязательности, см. тяжесть и ревность.
Но были у Некрасова и бесспорные черты первого человека, ср. противопоставление его Толстому у Розанова в «Мимолётном» (приведено в Лев Толстой как второй человек). Мотив восстания в приведённом отрывке отсылает к образу второго первого человека, революционера.
народ-поэт
Один из самых частых источников путаницы то, что мы обычно при слове поэт представляем одинокую избранную личность, противостоящую толпе. То есть поэт для нас первый по важности. Но это явно вторичное понимание. Изначально поэт, первочеловек это всечеловек, народ, «держатель языка», и «наш» поэт, даже самый гениальный, всего лишь его далёкий потомок, седьмая вода на киселе.
великий человек
Понимаешь, что большой поэт – это едва ли не в первую очередь большой человек. Что поэтический дар – условие, конечно, необходимое, но недостаточное для создания большой поэзии. Литературно одарённых людей сколько угодно, и талантливых поэтов достаточно, но гениальную поэзию способны создавать только очень значительные, крупномасштабные люди.
Б. Парамонов. Разговоры с небожителем / Звезда, 1999, № 2, с. 217
Великие поэты – это не те, которые пишут самые лучшие стихи. Совмещаться это может (Пушкин, например), но необязательно.
Великий поэт – это тот, кто шире всех постиг «образ и давление времени» (как говорил Шекспир). Для русского ХХ века это Блок – как для XIX Пушкин, – и никто другой в такой мере. Можно больше любить стихи других современников Блока. Не в том дело. Блок вообще не поэт отдельных стихов; он явление в целом.
Он замыкает собой ряд русских писателей, которые отвечали на всё и за всё[,] – Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов...
Л. Гинзбург. Записи 1980-х годов / Л.Я. Гинзбург. Записные книжки. Новое собрание. М., 1999, с. 438
Всё же Блок не столько начинает двадцатый век, сколько завершает девятнадцатый (как в прозе Чехов).
Второй человек напротив мелок и мелочен, ему свойственна скрупулёзность, любовь к деталям. (Раз)деление, дробление, анализ. Мелок и он сам, и его объект, и плоды его деятельности. Эти черты отчасти наследует от него (и вместе с тем преодолевает) третий человек. Так, толковать родственно толочь ‘дробить, измельчать’, ср. новое словечко перетирать ‘обсуждать’. Из мелкомасштабности второго происходит «микрокосмическая» вездесущесть и всепроникаемость (> проницательность) третьего.
Бахтин об актёре Сандро Моисси:
[...] вот это тоже было потрясающее нечто для меня – Сандро Моисси. [...] Это был изумительный актёр, совершенно исключительный.
Д: [...] На каком языке он играл?
Б: На немецком. [...] Так как он был один, то остальные все играли по-русски, это актёры Александринского театра. Вот как-то создавало какой-то особый фон: что это какой-то совершенно человек из другого мира, настоящего, большого мира, а остальные все так – пигмеи какие-то, пигмеи и дикари. [...] Он маленький, невысокого роста, довольно щуплый, лицо у него обезьянье почти что, но необычайно живое. Но, конечно, когда он играл, то это совершенно... Он настолько, так сказать, подавлял своей душою, своим характером, подавлял и свою наружность, и свой рост и так далее, и так далее. Вы видели настоящего большого героя, который казался выше всех его окружающих, хотя он был по росту ниже всех окружающих. [...] это один из величайших актеров, которых я видел. [...] У нас таких актёров не было.
М.М. Бахтин: беседы с В.Д. Дувакиным. М., 2002, с. 227–228
величина и величие
Великий человек живёт в большом времени, делает большое дело (подвиг), имеющее большой (глубинный) смысл, за что удостаивается великого имени (славы). См. большое время.
По Бахтину в подлинном фольклоре человек
[...] велик сам, а не за чужой счёт, он сам высок и силён, он один может победно отражать целое вражеское войско [...], он прямая противоположность маленького царя над большим народом, он и есть этот большой народ, большой за свой собственный счёт. Он порабощает только природу, а ему самому служат только звери (да и те не рабы ему).
М. Бахтин. Формы времени и хронотопа в романе, 4
человек-эпоха
Близок к великому человеку (но не совсем совпадает с ним) «человек-эпоха», «человек-парадигма», редкий даже среди первых людей, первый из первых, чьим именем называют целую историческую эпоху, когда всё, что возникает в культуре и вообще в жизни, так или иначе соотносится с этим именем. В русской культуре это Пушкин, Блок и, как ни странно покажется многим негуманитариям (да и многим гуманитариям), Бахтин, Топоров. Гоголь мог бы составить эпоху, но его к счастью «поглотил» Пушкин. (Впрочем Чернышевский писал о гоголевском периоде, имея в виду в основном область литературы.) Сходным образом чеховская эпоха почти растворилась в блоковской. Достоевский и Толстой при всей их гениальности не составили эпохи. (Правда в несколько ином смысле можно сказать, что эпоха Достоевского наступила в двадцатом веке.)
Но пушкинская и блоковская эпохи ограничены рамками русской культуры, а «парадигмы» Бахтина и Топорова распространяются пожалуй на весь христианский мир.
Воздействие идей Топорова на развитие русской (и мировой) филологии второй половины ХХ – начала ХХI века огромно и несомненно – они буквально растворились в воздухе науки.
А. Немзер. Памяти Владимира Топорова / Время новостей, 6.12.05
В том-то и дело, что не только науки. В отличие от Бахтина Топоров, как теперь говорят, позиционировал себя как учёного, но он прекрасно видел ограниченность науки и не раз высказывался в том смысле, что есть вещи поважнее науки. И эти важные вещи всегда подспудно, а в последние годы и явно присутствовали в его работах.
Алла Пугачёва
Известный анекдот о Брежневе как политическом деятеле эпохи Пугачёвой не лишён оснований, наша эпоха действительно во многом эпоха Пугачёвой. Это конечно не просто певица, а в полном смысле слова деятель и двигатель культуры («Но какой культуры?» – слышатся возмущённые голоса), с редким чувством архетипа и сознательным умением этим архетипом пользоваться. Её уже давно называют не иначе как примадонна, часто с большой буквы. И вкус у неё вполне соответствует вкусу первого человека – см. вкус и безвкусица.
